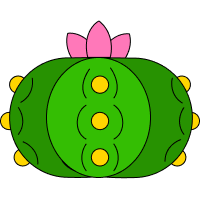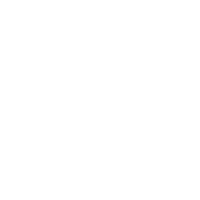Какой смысл знать то, что бесполезно?
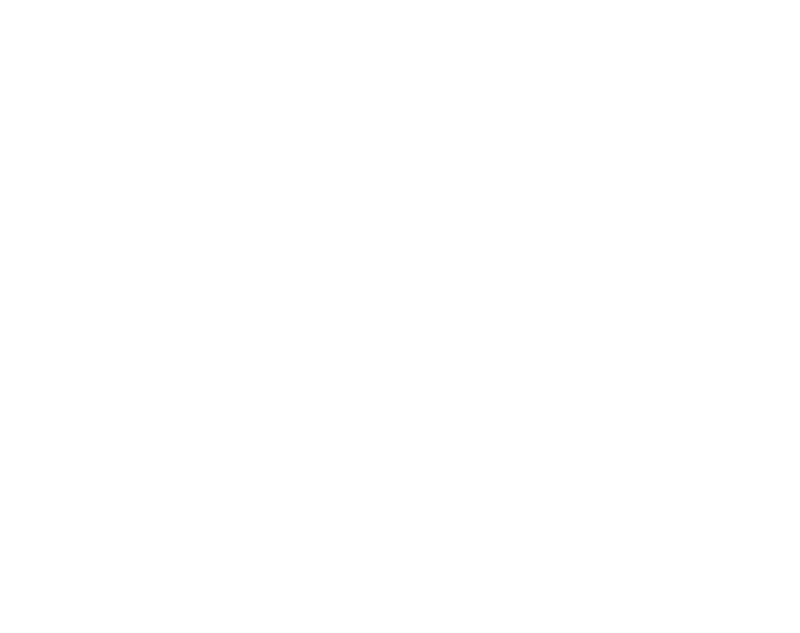
Он тут же толкнул меня в плечо:
— Я тебе что говорил — не смей его так называть. Ты ещё недостаточно с ним знаком, чтобы быть за панибрата.
— … каким образом Мескалито защищает людей?
— Он советует. Он отвечает на любой вопрос.
— Значит, Мескалито реален? Я имею в виду — он что-то такое, что можно видеть?
Похоже было, мой вопрос его просто ошарашил. Он растерянно посмотрел на меня, в его взгляде было искреннее недоумение.
— Я хочу сказать, что Мескалито…
— Я слышал. Разве ты не видел его прошлой ночью?
Я хотел сказать, что видел только собаку, но меня остановил его озадаченный взгляд.
— Так ты думаешь, что то, что я видел прошлой ночью, это и был он?
В его взгляде отразилось участие, потом он усмехнулся, точно не мог поверить, и очень проникновенным тоном сказал.
— Не хочешь же ты сказать, что это была… твоя мать?
Перед словом «мать» он сделал паузу, как будто хотел сказать «tu chingada madre» — идиома, которая содержит оскорбительный для собеседника намек. Слово «мать» было настолько неожиданным, что оба мы долго смеялись. Затем я обнаружил, что он уже спит и ничего не слышит.
Я сказал дону Хуану, что я думаю по поводу моего опыта. По сравнению с тем, как я себе рисовал обучение, событие было катастрофическим. Я сказал, что с меня хватит одной встречи. Я признал, что все это, конечно, более чем интересно, но вновь искать подобных встреч я не намерен. Для меня совершенно ясно, что такие истории не по мне.
Одним из побочных следствий употребления пейота было странное недомогание — какой-то непонятный страх, какая-то тревога или меланхолия, не поддающаяся точному определению. И я в этом не находил ничего замечательного.
Дон Хуан рассмеялся и сказал:
— Ну вот, ты начинаешь учиться.
— Хорошенькое обучение! Пусть себе учится кто-нибудь другой.
— Любишь ты преувеличивать.
— Да ничего я не преувеличиваю!
— А то как же. Плохо только, что преувеличиваешь ты одно плохое.
— Для меня, я так понимаю, здесь вообще нет ничего хорошего. Мне страшно, а остальное меня не интересует.
— Ну и что, что тебе страшно.
Я принялся отпираться, ссылаясь на то, что к этому совершенно не готов — понятно ведь, что для такой задачи потребуется редкое мужество, которого у меня нет и в помине. Я говорил ему, что в таких делах предпочитаю уступать другим и просто наблюдать со стороны. Я хотел бы просто выслушивать его оценки и высказывания по разному поводу. Я сказал — как я был бы счастлив просто сидеть здесь и без конца его слушать. Вот это обучение, я понимаю.
Он терпеливо ждал, когда я закончу. Когда я наконец выдохся, он сказал:
— Ну, все понятно.
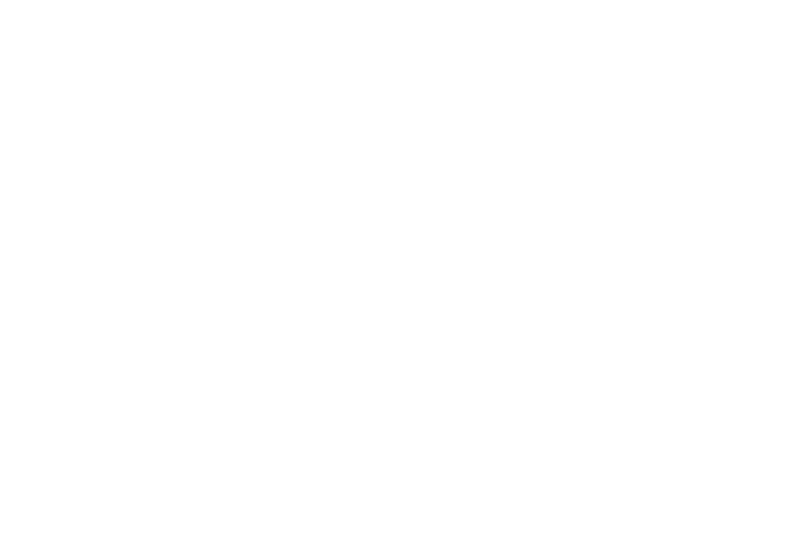
— Ты думаешь не о том и вообще не так, как следует, — сказал он. — Мескалито в самом деле играл с тобой. Вот об этом бы тебе следовало подумать, а не цепляться за свой страх.
— Неужели это было так необычно?
— Сколько я себя помню, я видел лишь одного человека с которым Мескалито играл, — это тебя. Понятно, что такая жизнь для тебя полнейшая неожиданность; потому от тебя и ускользают совершенно ясные знаки. Ты в общем человек серьезный, только твоя серьезность направлена на то, что тебя занимает, а не на то, что стоит внимания.
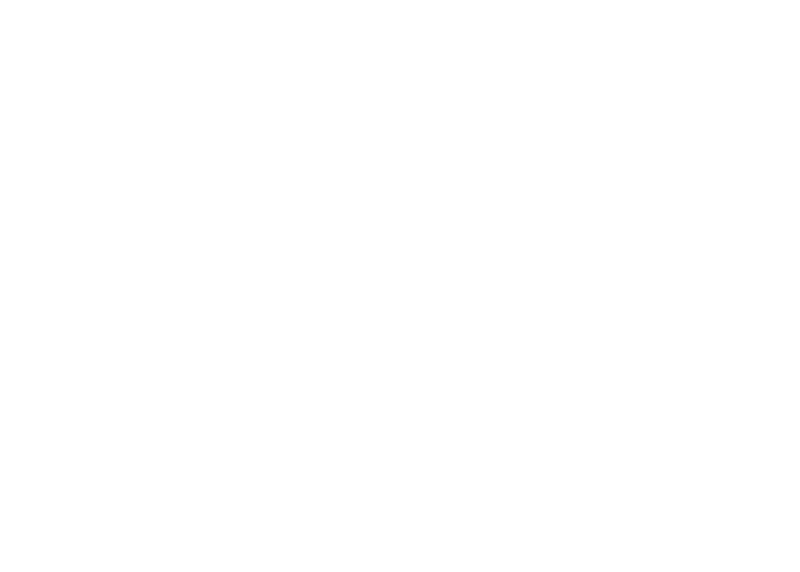
— Нужно искать и видеть чудеса, которых полно вокруг тебя.
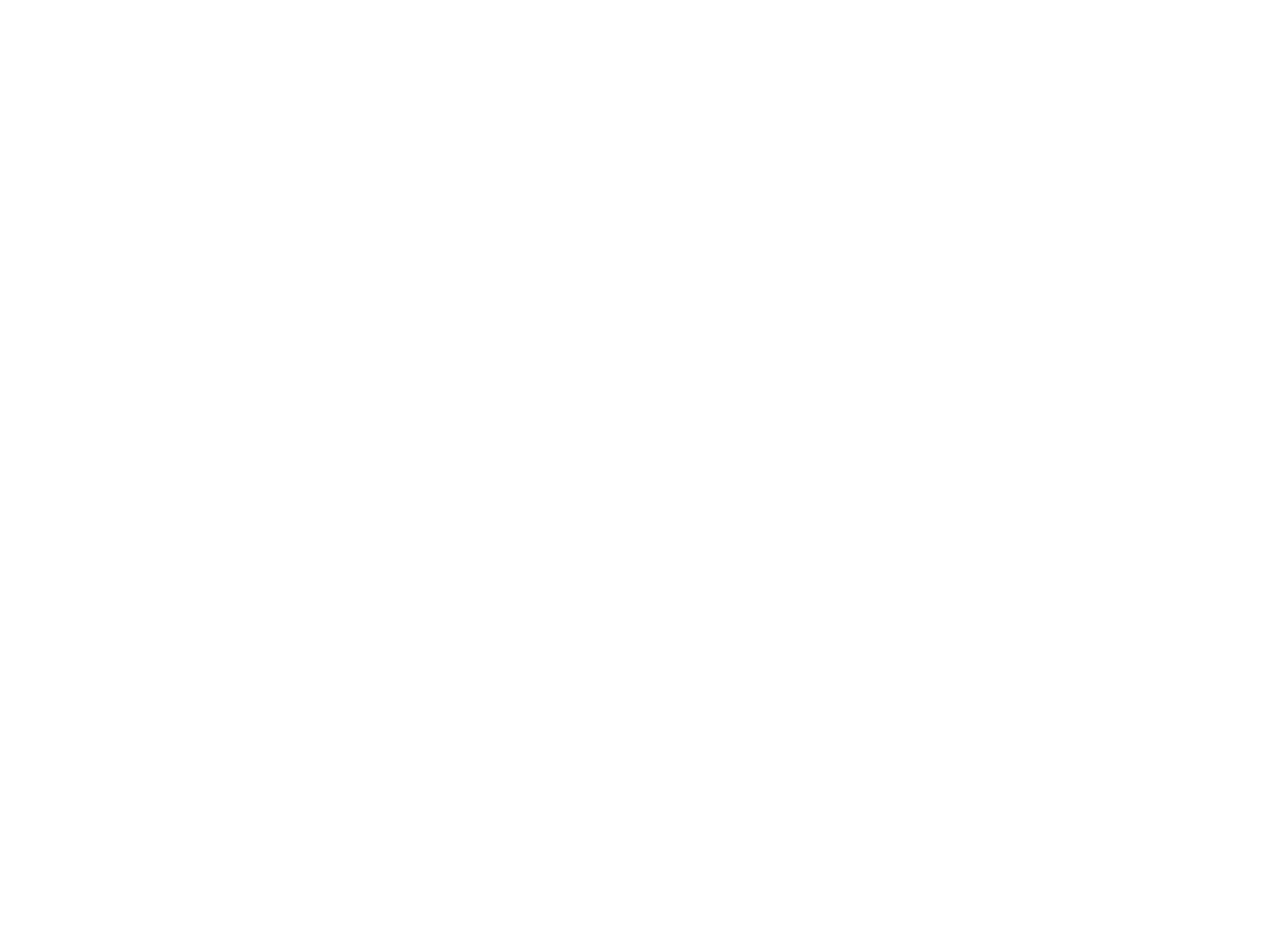
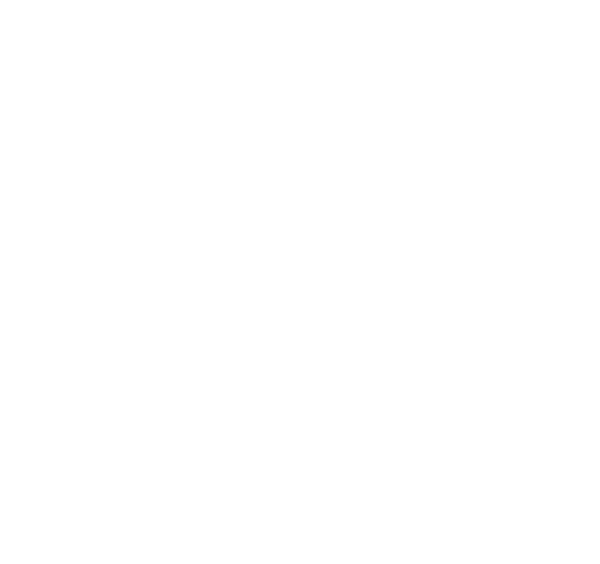
Любое отступление от этого правила — роковая ошибка, и тот, кто её совершает, непременно доживёт до того дня, когда горько пожалеет об этом.
Только выполняющий эти условия застрахован от ошибок, за которые придётся платить; лишь при этих условиях он не будет действовать наобум.
Если такой человек и терпит поражение, то он проигрывает только битву, а об этом не стоит слишком сожалеть.
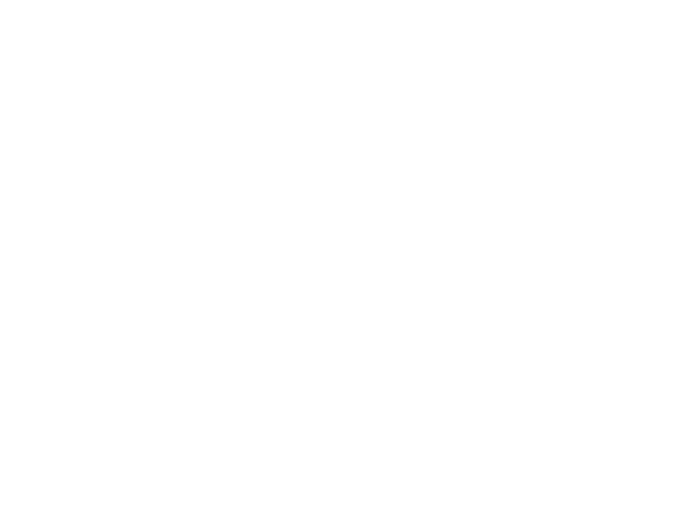
Союзник необходим, чтобы улучшить и укрепить жизнь человека, чтобы направлять его действия и пополнять его знания. Союзник, в сущности, — неоценимая помощь в познании. Все это дон Хуан сказал с силой абсолютной убежденности. Видно было, что он тщательно взвешивает слова. Следующую фразу он повторил четырежды:
— С помощью союзника ты увидишь и поймешь такие вещи, о которых вряд ли еще от кого-нибудь узнаешь.
— Союзник — это что-то вроде сторожевого духа?
— Нет, это не сторож и не дух. Это помощь.
— Твой союзник — Мескалито?
— Нет. Мескалито — совсем иная сила. Несравненная сила! Он — защитник. Он — учитель.
— Чем же он отличается от союзника?
— Союзника можно приручить и использовать. Мескалито — нет. Он вне кого угодно и ни от кого не зависит. Он по собственному желанию являет себя в каком захочет виде тому, кто предстал пред ним, будь это кто угодно — брухо или обыкновенный пастух.
Дон Хуан с большим пылом заговорил о Мескалито как о наставнике, учителе того, как следует жить. Я спросил, каким же образом учит Мескалито «как следует жить», и дон Хуан ответил — он показывает как жить.
— Как показывает?
— Способов множество. Он может показать это у себя на ладони, или на скалах, или на деревьях, или просто прямо перед тобой.
— Это что — картина перед тобой?
— Нет. Это учение перед тобой.
— Он что-то говорит?
— Говорит. Но не словами.
— А как же тогда?
— Каждому по-разному.
Я почувствовал, что мои расспросы опять его раздражают, и больше не прерывал. Он вновь принялся разъяснять, что для познания Мескалито не существует общеобязательных предписаний: учить знанию о Мескалито не может никто, кроме него самого. Потому он особая сила; для каждого он неповторим.
Напротив, чтобы заполучить союзника, в обучении требуется строжайшая последовательность, не допускающая ни малейших отклонений. В мире много таких союзных сил, сказал дон Хуан, но сам он знаком лишь с двумя из них. Именно с ними и с их тайнами он намеревался меня познакомить; однако выбирать между союзниками придется мне самому, поскольку я могу иметь лишь одного.
У его бенефактора союзником была «трава дьявола» (la yerba del diablo). Но самому дону
Хуану она пришлась не очень по душе, хотя он и узнал от бенефактора все ее тайны. Мой личный союзник — «дымок» (humito), сказал дон Хуан, но в дальнейшие детали не вдавался.
Я все же спросил его, что это такое. Он не ответил. После долгой паузы я спросил:
— Какого рода сила союзника?
— Я уже говорил — это помощь.
— В чем она состоит?
— Союзник — это сила, которая способна увести человека за его границы. Именно таким образом союзник открывает то, что никому не известно.
— Но и Мескалито тоже уводит тебя за твои границы. Разве это не делает его союзником?
— Нет. Мескалито уводит тебя за твои границы для того, чтобы учить: союзник — для того, чтобы дать тебе силу.
Я попросил остановиться на этом более детально или хотя бы растолковать разницу в их действии. Он только посмотрел на меня, потом расхохотался и сказал, что
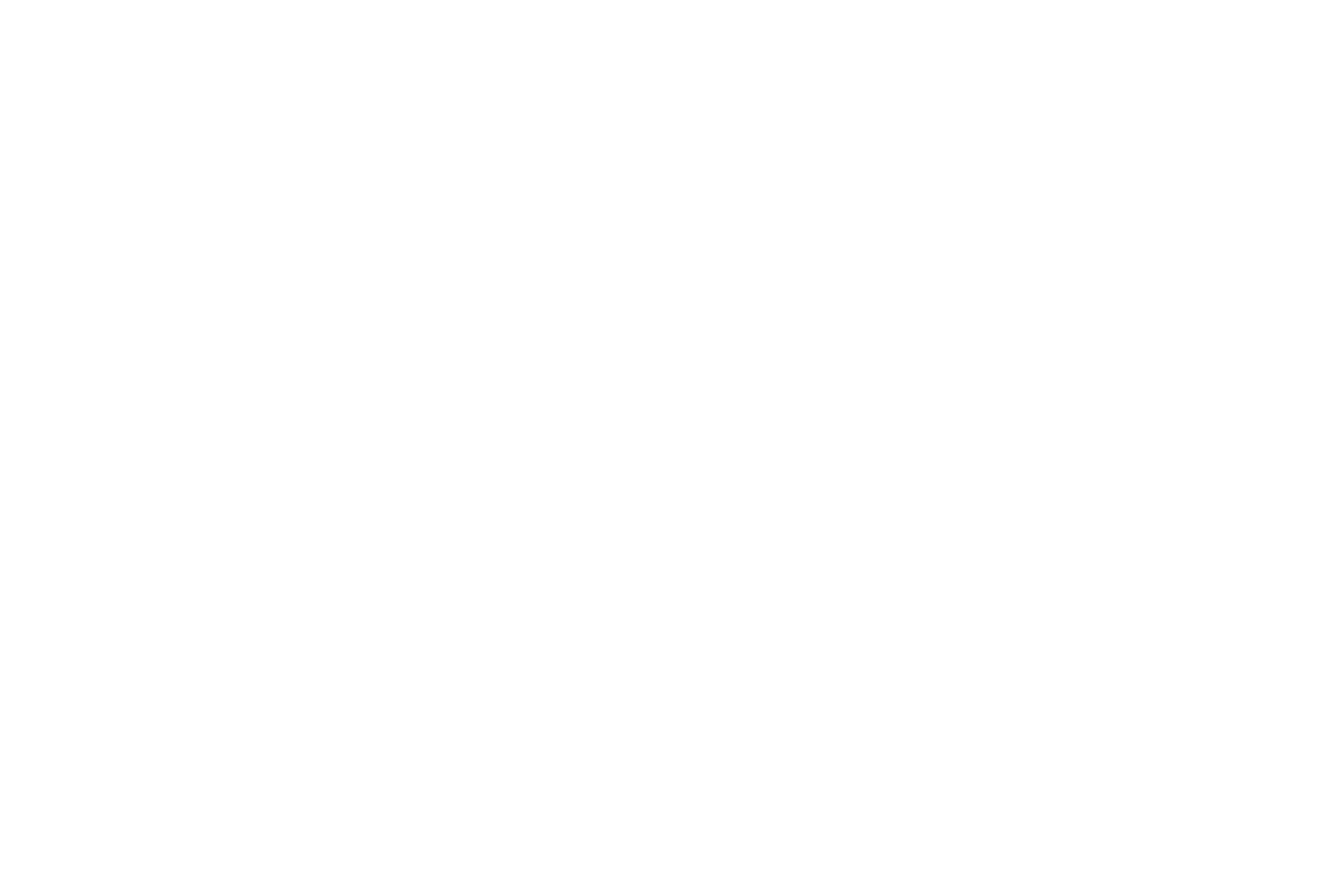
Он долго молчал, а я все ждал ответа, поскольку казалось, он что-то мысленно взвешивает.
Наконец он сказал — есть вообще один способ, собственно вот какой. Прежде всего он обратил внимание на тот факт, что я очень устаю, сидя на полу, и для начала следует найти на полу «пятно», как он выразился, где я мог бы сидеть без устали сколько угодно.
До этого я сидел обхватив руками щиколотки и прижав колени к подбородку. Едва он сказал это, как я почувствовал, что совершенно выдохся и спину у меня ломит от усталости. Я ожидал объяснений, что это за «пятно», но он и не подумал ничего объяснять. Я решил, что, может быть, он имеет в виду, что мне надо пересесть, поэтому поднялся и сел к нему поближе.
Он возмутился и принялся втолковывать, упирая на каждом слове, что «пятно» — это место, где ты чувствуешь себя самим собой — сильным и счастливым. Он похлопал рукой по тому месту на веранде, где сидел, и сказал — вот, к примеру, мое собственное место: затем добавил, что эту задачу я должен решить самостоятельно, причем не откладывая.
Для меня такая задача была попросту загадкой. Я понятия не имел, с чего начать, да и вообще — что именно. Несколько раз я просил дать мне какой-нибудь ключ или хотя бы подсказку насчет того, как приступить к поискам этого самого места, где я буду чувствовать себя сильным и счастливым.
Я стоял на своем и доказывал, что совершенно не представляю себе, что же имеется в виду, да и как подойти к решению этой задачи. Он предложил мне походить по веранде, — может статься, я найду «пятно». Я встал и начал выхаживать взад-вперед; наконец почувствовал, до чего это глупо, и сел перед ним.
Его охватил гнев, и он заявил, что я ничего не желаю слушать и вообще, похоже, не собираюсь учиться. Потом успокоился и вновь начал втолковывать, что отнюдь не на каждом месте можно сидеть или вообще на нем находиться, и что в пределах веранды есть одно особое место, «пятно», на котором мне будет лучше всего. Моя задача — найти его среди всех остальных. Если угодно, это можно понимать так, что я должен «прочувствовать» все здесь пятна, пока без всяких сомнений смогу определить то, которое мне подходит.
Я возразил, что хотя веранда и не очень велика (восемь футов на двенадцать), возможных пятен на ней множество, и понадобится уйма времени, чтобы проверить каждое; а кроме того, если учесть, что он не указал мне размеров пятна, их количество вообще возрастает до бесконечности. Но спорить было бесполезно.
Он встал и очень жестко предупредил, что на поиски у меня может уйти хоть неделя, и если это меня не устраивает, то я могу уезжать хоть сейчас, говорить больше не о чем. Он подчеркнул, что самому-то ему отлично известно, где мое пятно, поэтому я не смогу его обмануть.
Это единственный способ, сказал дон Хуан, засчитать в качестве достаточной причины одно лишь мое желание учиться знанию о Мескалито. В его мире, добавил он напоследок, ничто не дается даром, а уж знание и подавно.
Он пошел в кусты за домом помочиться, а потом прямо оттуда вернулся в дом.
Я подумал, что задание найти это самое пятно счастья — попросту предлог, чтобы от меня отделаться, но все же встал и вновь принялся выхаживать по веранде. Небо было безоблачным, и на веранде и вокруг было хорошо видно. Расхаживал я, должно быть, примерно час или больше, но не произошло ничего такого, что указало бы местонахождение
пятна.
Я устал и сел на пол; через несколько минут пересел на другое место, пока с помощью такой, с позволения сказать, системы не проверил всю веранду. Я честно старался «почувствовать» между местами разницу, но ее критерий был для меня недостижим. Я чувствовал только, до чего это безнадежно, и все же не уходил. В конце концов, не для того я за тридевять земель сюда тащился, чтобы уехать ни с чем.
Я лег на спину и заложил руки под голову. Затем перевернулся и немного полежал на животе. Такой маневр я повторил по всему полу. Впервые, похоже, я наткнулся хоть на какой-то критерий. Лежать на спине было теплее.
Я снова начал кататься по полу, теперь в обратную сторону, и снова проверил весь пол. На этот раз укладываясь ничком там, где прежде ложился навзничь. Ощущения тепла или холода были неизменными — в зависимости от моего положения, но разницы между местами не было.
Тут меня осенило: место дона Хуана! Я сел на его место, потом лег, сначала на живот, потом на спину, но и здесь не было ровно ничего примечательного. Я встал: я был сыт по горло. Нужно попрощаться с доном Хуаном, вот только не хотелось его будить. Я взглянул на часы. Два часа
ночи! Я прокатался по полу шесть часов.
В этот момент на веранду вышел дон Хуан и снова направился вокруг дома в кусты. Потом вернулся и остановился в двери. Я чувствовал отчаяние, мне хотелось сказать ему напоследок что-нибудь оскорбительное и уехать. Но тут я подумал, что это ведь не его вина: в конце концов я сам напросился на эту комедию. Я сказал — сдаюсь: я как идиот всю ночь катался по полу, и все еще не вижу никакого смысла в его загадке.
Он рассмеялся и сказал, что ничего удивительного, ведь я не пользовался глазами. И в самом деле, этого я не сообразил, поскольку сразу понял с его слов именно так, что разницу нужно «почувствовать». Я начал было опять спорить, но он меня прервал, заявив, что глазами тоже можно чувствовать, если не смотреть на вещи в упор. Если уж я за это взялся, то, может быть, стоит попробовать то, что у меня осталось, — мои глаза.
Он закрыл за собой дверь. Я был уверен, что все это время он исподтишка наблюдал за мной, — потому что как иначе он мог знать, что я не пользовался глазами.
Я снова начал валяться по полу, поскольку это было проще всего. Теперь, однако, лежа на животе, я клал на руки подбородок и всматривался в каждую деталь.
Немного погодя темнота вокруг изменилась. Стоило мне уставиться прямо перед собой, как вся периферия поля зрения приобретала яркий однородный зеленовато-желтый цвет. Эффект был поразительным. По-прежнему уставясь перед собой и стараясь не сбить фокус, я пополз боком, передвигаясь каждый раз на фут.
Вдруг в точке примерно посреди веранды я заметил смену оттенка. Справа на периферии поля зрения зеленовато-желтый цвет превратился в ярко-пурпурный. Я сконцентрировал на нем внимание. Пурпурный цвет посветлел, не убывая в яркости, и таким и оставался, пока я удерживал его боковым зрением.
Я накрыл это место курткой и позвал дона Хуана. Он вышел на веранду. Про себя я торжествовал: я в самом деле видел смену оттенков. На него это, однако, не произвело особого впечатления, но он предложил мне сесть на это место и описать свои ощущения.
Я сел на пол; потом лег на спину. Он стоял рядом и то и дело спрашивал, как я себя чувствую; но я не чувствовал в себе каких-то изменений. Минут пятнадцать я старался почувствовать или увидеть, что ли, какую-то разницу, а рядом терпеливо ждал дон Хуан. Наконец я почувствовал, до чего мне все это опротивело. Во рту был металлический привкус. Неожиданно разболелась голова. Похоже было, я вот-вот заболею. Мысль о бесплодности любых моих усилий привела меня в ярость. Я встал.
Дон Хуан, должно быть, заметил, как я расстроен. На этот раз он был очень серьезен и внушительным тоном сказал, что если я в самом деле хочу учиться, то мне придется в отношении самого себя быть непреклонным. Для тебя, сказал он, существует лишь один выбор: либо сдаться и уехать, распрощавшись со своей мечтой, либо разгадать загадку.
Он скрылся за дверью. Я хотел уехать немедленно, но слишком устал. К тому же смена оттенков была столь очевидной, что здесь попросту не мог не скрываться какой-то критерий, а кроме того, не исключено ведь, что существуют еще какие-то признаки. Да и уезжать сейчас было уже поздно. Я сел, вытянул ноги и начал все сначала.
На этот раз, миновав пятно дона Хуана, я быстро добрался с места на место до конца пола, затем развернулся, чтобы захватить внешний край веранды. Дойдя до центра, я зафиксировал еще одно изменение в окраске, опять на периферии поля зрения. Разлитый повсюду однородный зеленовато-желтый цвет в одном месте, справа от меня, превратился в яркий серо-зеленый. Какое-то время этот оттенок держался, затем вдруг перешел в новый, не тот, который был раньше. Я снял ботинок, отметил эту точку и вновь начал кататься, пока не покрыл пол во всех возможных направлениях. Больше никаких изменений в оттенках не было.
Я вернулся к точке, отмеченной ботинком, и тщательно ее осмотрел. Она находилась в шести футах на юго-восток от той, что была отмечена курткой. Рядом лежал валун. Я присед на него передохнуть, пытаясь найти ключ и всматриваясь в каждую деталь, но по-прежнему не чувствовал никакой разницы.
Я решил попробовать с другой точкой. Опустившись на колени, я собрался уже лечь на куртку, когда вдруг почувствовал что-то совершенно необычное. Более всего это напоминало физическое ощущение, как будто что-то буквально давит на мой желудок. Я моментально отскочил. Волосы на затылке встали дыбом. Ноги согнулись, туловище наклонилось, а руки
со скрюченными как когти пальцами были выброшены вперед на уровне груди. Я поймал себя на этой странной позе и еще больше испугался.
Я невольно попятился и, наткнувшись на валун, сполз на пол рядом с ботинком. Я пытался сообразить, что же меня так напутало. Может быть, я перестарался и слишком устал. Уже давно рассвело. Я чувствовал, что ум заходит за разум и что я совершенно разбит. Но это еще не объясняло мой внезапный страх; кроме того, я по-прежнему не мог понять, чего в конце
концов хочет от меня дон Хуан.
Я решил сделать последнюю попытку. Я поднялся и медленно приблизился к месту, отмеченному курткой, и вновь почувствовал невыносимое давление в области желудка. На этот раз я решил ни за что не отступать. Я уселся, потом встал на колени, чтобы лечь на живот, но никак не мог этого сделать, несмотря на отчаянные усилия. Я уперся ладонями перед собой в пол веранды. Дыхание участилось, желудок забунтовал. Меня охватила неодолимая паника, я изо всех сил боролся с желанием удрать. Тут я вспомнил, что дон Хуан, наверное, за мной наблюдает. Я медленно отполз к ботинку и прислонился спиной к валуну. Я хотел передохнуть и собраться с мыслями, но заснул.
Я услышал над собой голос и смех дона Хуана и проснулся.
— Ты нашел его, — говорил он.
Я не сразу понял, и он вновь подтвердил, что мое пятно и есть то самое место, где я заснул. Он опять спросил, как я себя на нем чувствую. Я ответил, что вроде никакой разницы.
Он предложил мне сравнить свои нынешние ощущения с тем, что я испытывал на прежнем пятне. Впервые до меня дошло, что я, пожалуй, не смогу объяснить все свои ощущения этой ночью. Он с вызовом приказал мне сесть на прежнее пятно. Но это место по какой-то необъяснимой причине наводило на меня страх, и я решительно отказался. Он заключил,
что только дурак не увидит разницы.
Я спросил, имеется ли у этих двух пятен название. Хорошее пятно, сказал он, называется «sitio», плохое — «врагом». Эти два пятна — ключ к самочувствию человека, в особенности того, кто ищет знание. Просто сидеть на своем месте значит уже создавать в себе высшую силу; и наоборот, «враг» ослабляет человека и может даже быть причиной его смерти. Он
сказал, что всю свою энергию, которую я столь щедро растратил за ночь, я восполнил только тем, что задремал на собственном месте.
Еще он сказал, что разные цвета, которые я видел на разных пятнах, обладают таким же неизменным эффектом, умножая или отбирая силу. Я спросил, нет ли еще каких-нибудь касающихся меня пятен, и как их разыскать. Он ответил, что мест, сходных с этими, в мире множество, и находить их проще всего по соответствующим цветам.
Для меня все-таки оставалось неясным, решил ли я в конце концов эту проблему и вообще — существовала ли она на самом деле. Я был уверен, что дон Хуан всю ночь за мной подсматривал, а потом решил меня подбодрить и свел все к шутке, объявив, что я, мол, уснул как раз где надо.
И все же это было как-то малоубедительно, а когда он потребовал для пробы сесть на другое пятно, я ни за что не мог себя заставить. Существовало странное несоответствие между моими логическими выкладками и несомненным опытом страха перед этим другим пятном.
Напротив, именно узнав на своей шкуре, как трудно найти пятно, а самое главное — убедившись, что оно в самом деле существует, я получил такое чувство уверенности, какое невозможно получить никаким иным образом. Он сказал, что
На этом месте я могу отразить нападение любого врага. Если же, допустим, он открыл бы мне, где находится это место, я никогда бы не имел той уверенности, которая является единственным критерием моего знания как подлинного.
Это и значит: знание — сила.
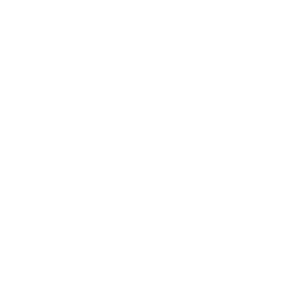
Я сказал, что все это просто пугающе и совсем не то, что я себе представлял.
В ответ он сказал, что
Однако каким бы устрашающим ни было учение, еще страшней представить себе человека, у которого нет союзника и нет знания
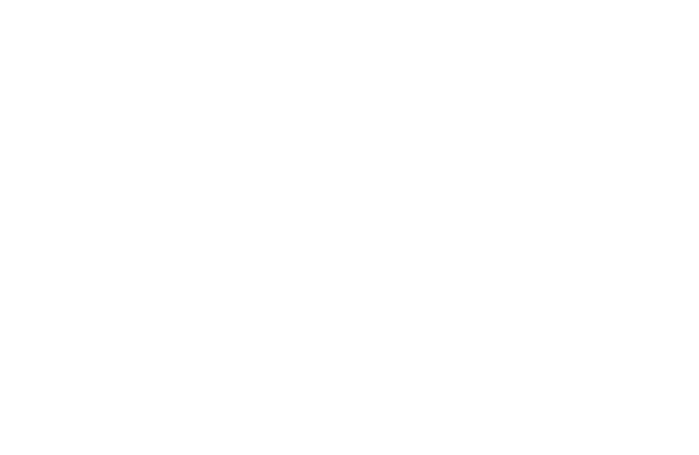
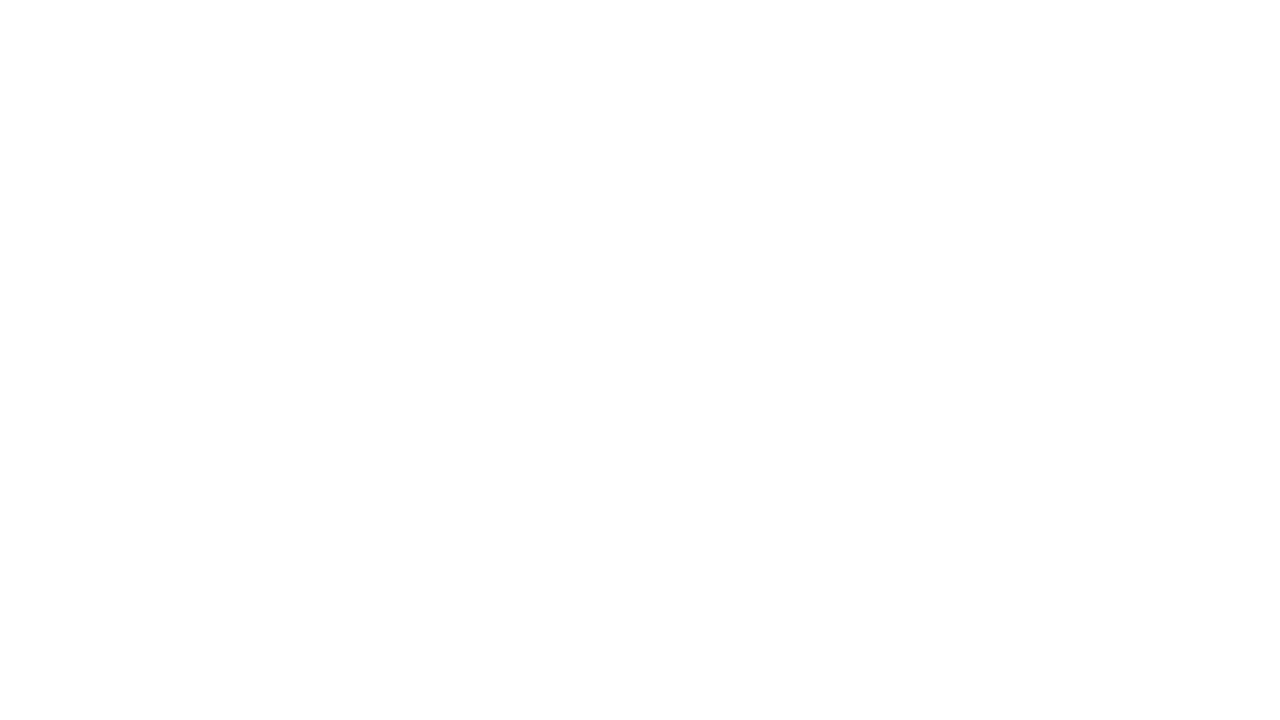
— Ты на меня не сердишься, а, дон Хуан? — спросил я, когда он вернулся. Он, казалось, удивился.
— Нет. Я никогда ни на кого не сержусь. Ни один человек не может сделать ничего, что этого бы заслуживало.
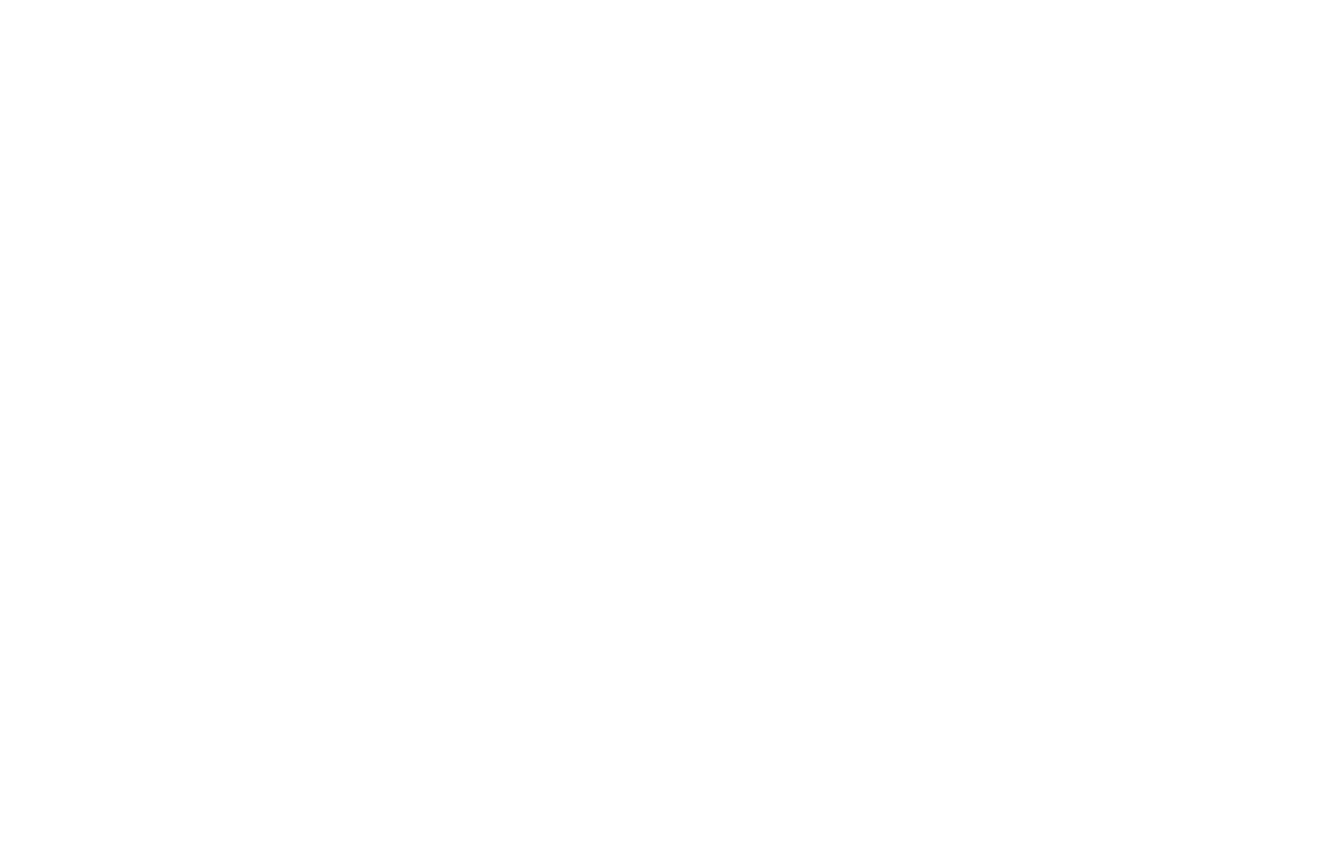
— Человек знания — это тот, кто добросовестно и с верой переносит лишения и тяготы обучения, — сказал он.
— Нет, далеко не каждый.
— Что же тогда для этого нужно?
— Человек должен бросить вызов своим четырем извечным врагам и сразить их.
— И после победи над ними он будет человеком знания?
— Да, человек имеет право назвать себя человеком знания лишь если победит всех четырех.
— Тогда может ли любой, кто победит этих врагов, быть человеком знания?
— Любой, кто победит их, становится человеком знания.
— Но существуют ли какие-то особые требования, которым должен соответствовать человек прежде, чем начать битву со своими врагами?
— Нет. Стать человеком знания может пытаться любой, хотя очень немногие преуспевают в этом; но это естественно. Враги, которых встречает человек на пути к знанию, — в самом деле грозные враги. Большинство людей перед ними отступают и сдаются.
— Что же это за враги, дон Хуан?
На этот вопрос он отвечать оказался, сказав лишь, что должно пройти много времени прежде, чем эта тема будет иметь для меня какой-то смысл.
Я все же попытался ее удержать и спросил, могу ли стать человеком знания, например, я. Он ответил, что этого, пожалуй, никто не может сказать наверняка. Но мне хотелось точно знать, нет ли какого-нибудь способа определить, есть ли у меня шанс.
Он сказал, что это решит моя битва против четырех врагов: я выйду либо победителем, либоп обежденным, но исход битвы предсказать невозможно.
Я спросил, не может ли он прибегнуть к колдовству или гаданию, чтобы увидеть исход. Он ответил совершенно безапелляционно, что результат битвы нельзя предвидеть никоим образом, поскольку быть человеком знания — вещь преходящая. Когда я попросил это растолковать, он ответил:
— Быть человеком знания — не навсегда: это непостоянно. Никто в действительности не является безусловно человеком знания. Скорее, человеком знания становятся лишь на краткое время после победы.
— Скажи мне, что это за враги.
Он не ответил. Я пытался настаивать, но он оборвал эту тему и заговорил о другом.
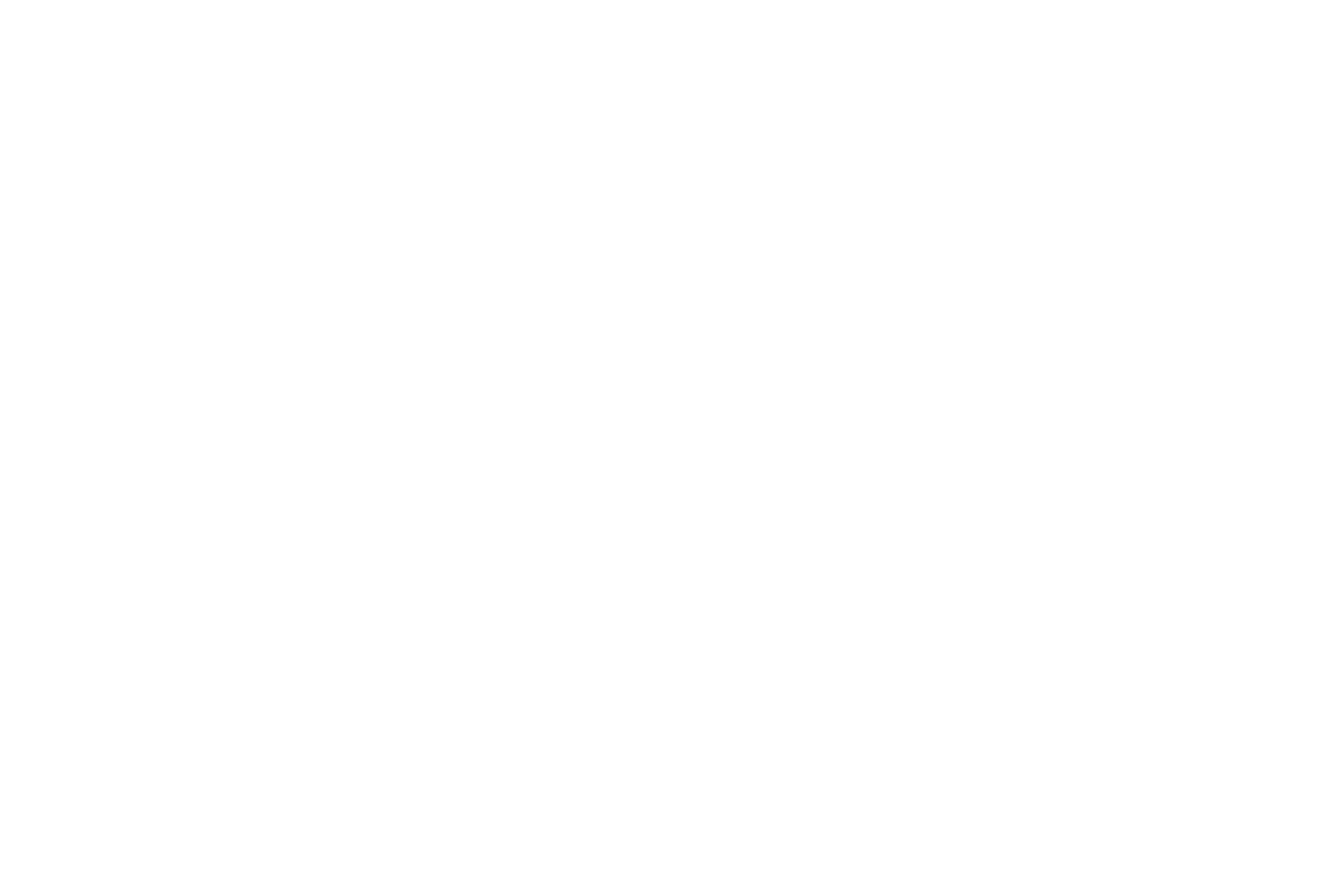
Поколебавшись, он всё же заговорил.
— Когда человек начинает учиться, он никогда не имеет четкого представления о препятствиях. Его цель расплывчата и иллюзорна; его устремлённость неустойчива. Он ожидает вознаграждения, которого никогда не получит, потому что ещё не подозревает о предстоящих
испытаниях.
Постепенно он начинает учиться — сначала понемногу, затем всё успешней. И вскоре он приходит в смятение. То, что он узнаёт, никогда не совпадает с тем, что он себе рисовал, и его охватывает страх. Учение оказывается всегда не тем, что от него ожидают. Каждый шаг — это новая задача, и страх, который человек испытывает, растёт безжалостно и неуклонно. Его цель оказывается полем битвы.
И таким образом перед ним появляется его первый извечный враг: Страх! Ужасный враг, коварный и неумолимый. Он таится за каждым поворотом, подкрадываясь и выжидая. И если человек, дрогнув перед его лицом, обратится в бегство, его враг положит конец его поискам.
— Что же с этим человеком происходит?
— Ничего особенного, кроме разве того, что он никогда не научится. Он никогда не станет человеком знания. Он может стать пустомелей или безвредным напуганным человечком: но во всяком случае он будет побеждённым. Первый враг поставил его на место.
— А что нужно делать, чтобы одолеть страх?
— Ответ очень прост: не убегать. Человек должен победить свой страх и вопреки ему сделать следующий шаг в обучении, и ещё шаг, и ещё. Он должен быть полностью устрашённым, и однако не должен останавливаться. Таков закон. И наступит день, когда его первый враг отступит. Человек почувствует уверенность в себе. Его устремлённость крепнет. Обучение больше не будет пугающей задачей. Когда придет этот счастливый день, человек может сказать не колеблясь, что победил своего первого извечного врага.
— Это происходит сразу или постепенно?
— Постепенно, и всё же страх исчезает внезапно и тотчас.
— А может человек вновь испытать его, если с ним случится что-нибудь непредвиденное?
— Нет.
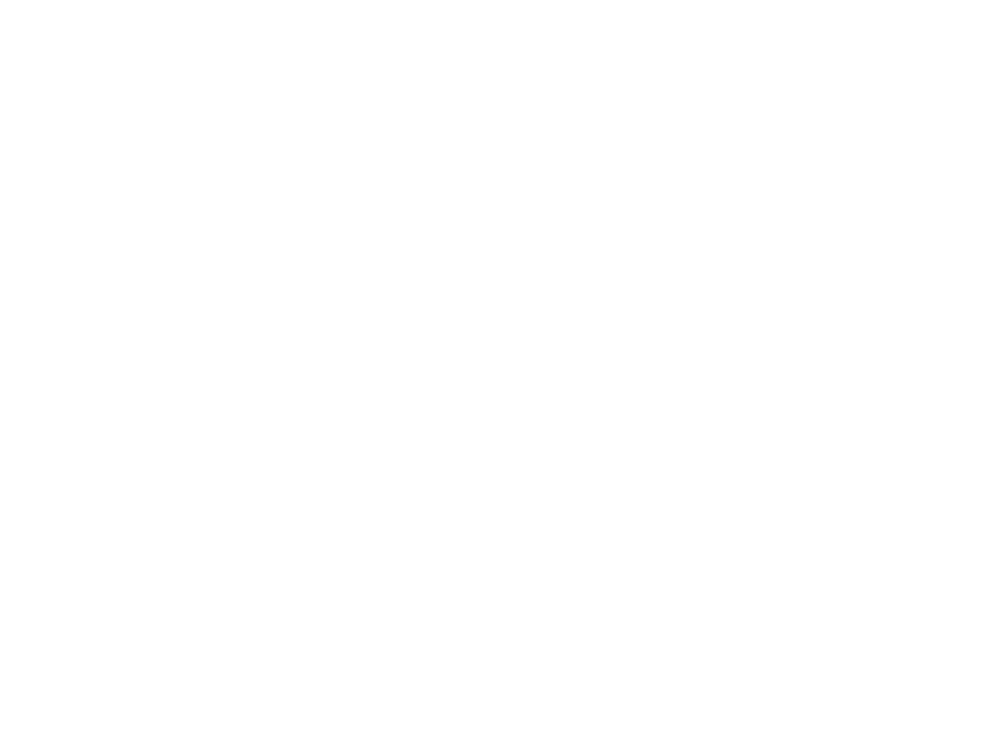
Она заставляет человека никогда не сомневаться в себе. Она дает уверенность, что он ясно видит все насквозь. Да он и мужествен благодаря ясности и не остановится ни перед чем. Но всё это — заблуждение: здесь что-то не то…
Если человек поддастся своему мнимому могуществу, значит, он побеждён вторым врагом и будет в обучении топтаться на месте.
Он будет бросаться вперёд, когда надо выжидать, или он будет выжидать, когда нельзя медлить. И так он будет топтаться, пока не выдохнется и потеряет способность еще чему-либо научиться.
— Что случается с ним после такого поражения? Он что, в результате умрёт?
— Нет, не умрёт. Просто второй враг перекрыл ему путь; и вместо человека знания он может стать веселым и отважным воином или, скажем, скоморохом.
Однако ясность, за которую он так дорого заплатил, никогда не сменится вновь тьмой и страхом. Все будет навсегда для него ясным, только он никогда больше ничему не научится и ни к чему не будет стремиться.
— Что же ему делать, чтобы избежать поражения?
— То же, что со страхом:
И однажды он увидит, что ясность была лишь точкой перед глазами. Только так он сможет одолеть своего второго извечного врага и достичь такого положения, в котором ему уже ничего не сможет повредить.
И это не будет заблуждением, всего лишь точкой перед глазами. Это будет подлинная сила.
На этом этапе ему станет ясно, что сила, за которой он так долго гонялся, наконец принадлежит ему. Он может делать с нею всё что захочет.
Его союзник в его распоряжении. Его желание — закон. Он видит насквозь всё вокруг. Это и значит, что перед ним третий враг: Сила!
Это — самый грозный враг. И конечно, легче всего — просто сдаться: ведь в конце концов её обладатель действительно непобедим. Он хозяин, который вначале идёт на обдуманный риск, а кончает тем, что устанавливает закон, потому что он — хозяин.
Здесь человек редко замечает третьего врага, который уже навис над ним. И он не подозревает, что битва уже проиграна. Он превращен своим врагом в жестокого, капризного человека.
— Он потеряет свою силу?
— Нет; ни ясности, ни силы он не потеряет никогда.
— Чем же он тогда будет отличаться от человека знания?
— Человек, побеждённый собственной силой, умирает, так и не узнав в действительности, что с нею делать. Сила — лишь бремя в его судьбе.
Такой человек не властен над самим собой и не может сказать, когда и как использовать свою силу.
— Является ли поражение от какого-нибудь из этих врагов окончательным?
— Разумеется. Раз уж человек однажды побеждён, он ничего не может поделать.
— А может ли, например, тот, кто побеждён силой, увидеть свою ошибку и её исправить?
— Нет. Если человек сдался, с ним покончено.
— Но что если он лишь временно был ослеплён силой, а тут от неё откажется?
— Ну, значит не всё потеряно; значит он всё ещё пытается стать человеком знания. Человек побеждён лишь тогда, когда он оставил всякие попытки и отрекся от самого себя.
— Но в таком случае получается, что человек может отречься от себя и испытывать страх целые годы, но в конце концов победит его.
— Нет, это не так. Если он поддался страху, то никогда его не победит, потому что будет избегать учения и никогда не отважится на новую попытку. Но если в течение многих лет он даже в центре своего страха не оставит попыток учиться, тогда он рано или поздно победит страх, потому что фактически никогда ему не поддавался.
— Как победить третьего врага, дон Хуан?
— Попросту победить, во что бы то ни стало. Человек должен прийти к пониманию того, что
Тогда он узнает, когда и как использовать свою силу. Это и будет означать, что он победил третьего врага и пришёл к концу своего странствия в обучении.
И вот тут без всякого предупреждения его настигает последний враг:
Старость!
Это самый жестокий враг, которого нельзя победить, можно лишь оттянуть свое поражение.
Это пора, когда человек избавился от страхов, от безудержной и ненасытной ясности, пора, когда вся его сила в его распоряжении, но и пора, когда им овладевает неодолимое желание отдохнуть, лечь, забыться.
Если он даст ему волю, если он убаюкает себя усталостью, то упустит свою последнюю схватку, и подкравшийся враг сразит его, превратив в старое ничтожное существо. Желание отступить затмит его ясность, перечеркнёт всю его силу и всё его знание.
Но если человек стряхнёт усталость и проживёт свою судьбу до конца, тогда его в самом деле можно назвать человеком знания, пусть ненадолго, пусть лишь на тот краткий миг, когда ему удастся отогнать последнего и непобедимого врага.
Одного лишь этого мгновения ясности, силы и знания уже достаточно.
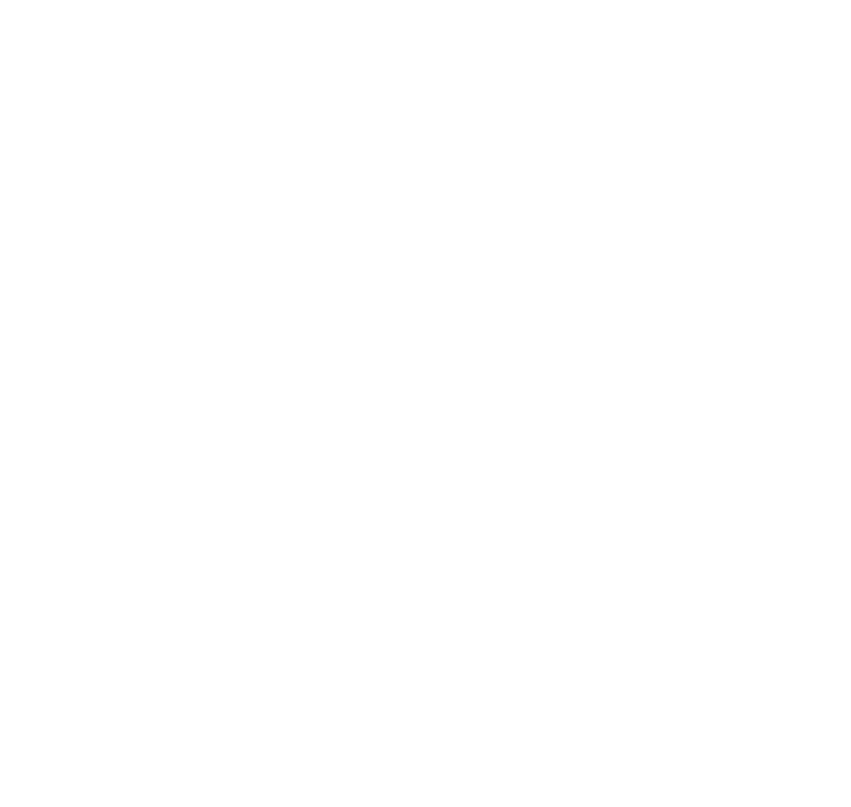
— Нет, не могу. Это мои собственные слова, им меня обучил сам защитник. Песни — мои песни. Я не могу рассказать тебе, что они такое.
— Почему не можешь?
— Потому что эти песни — связь между мной и защитником. Я уверен, когда-нибудь он научит тебя твоим собственным песням. Подожди до тех пор; и
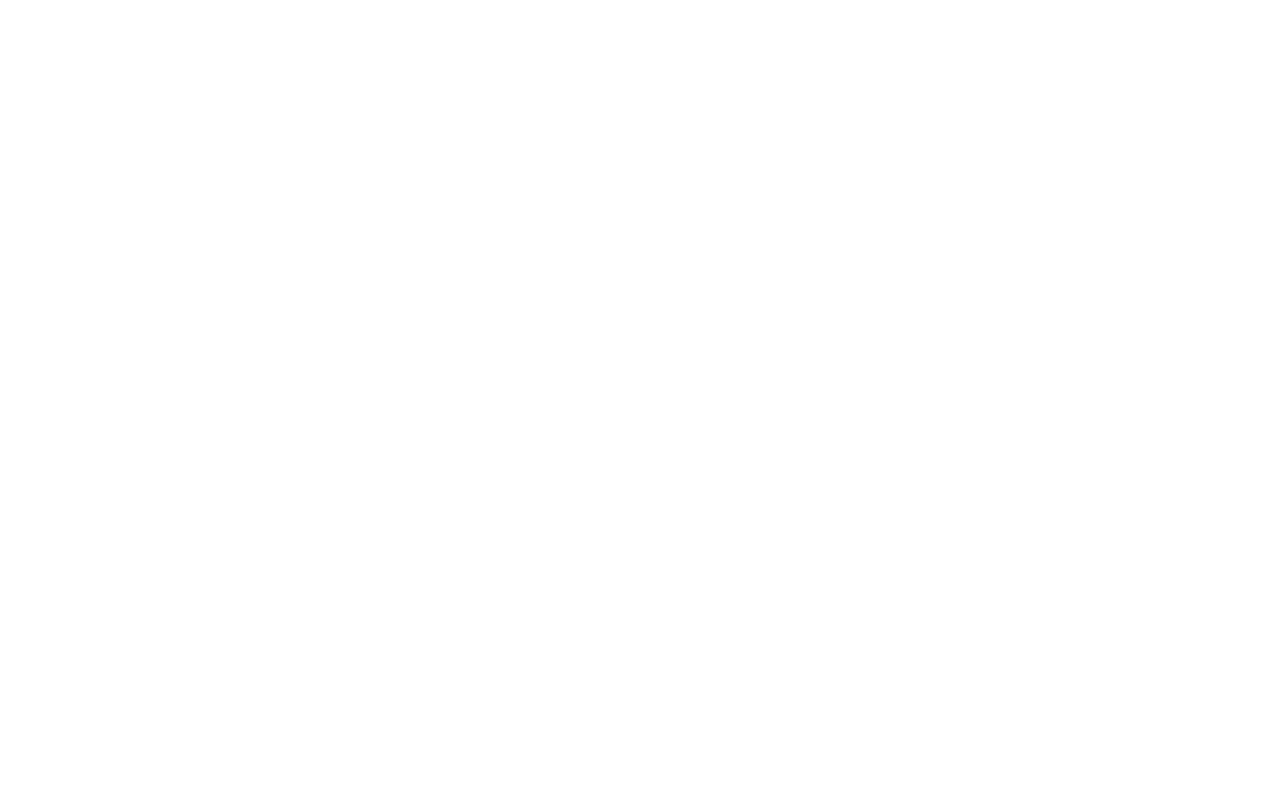
— Жизнь, прожитая в полном сознании и с полной ответственностью,
хорошая, сильная жизнь
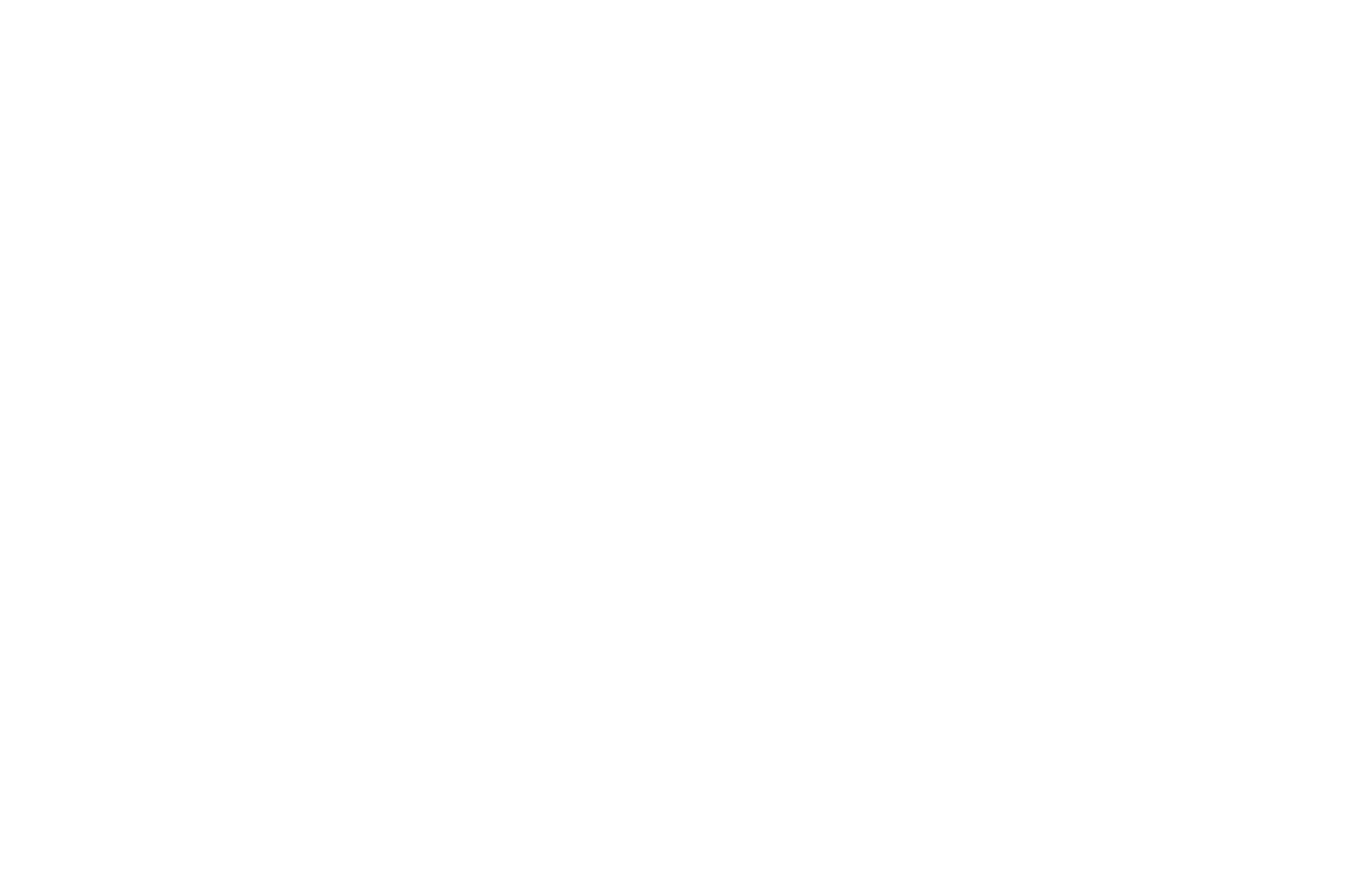
Чтобы обладать такой ясностью, ты должен вести дисциплинированную жизнь. Только при этом условии ты будешь знать, что
Смотри на любой путь прямо и без колебаний. Испытай его столько раз, сколько найдёшь нужным. Затем задай себе, и только себе самому, один вопрос. Этот вопрос задают лишь очень старые люди. Мой бенефактор задал мне его однажды, когда я был молод, но понять его мне тогда помешала слишком горячая кровь. Теперь я его понимаю. Я задам этот вопрос тебе: имеет ли твой путь сердце?
Все пути одинаковы: они ведут никуда. Они ведут через кусты или в кусты. Я могу сказать, что в своей жизни прошёл длинные-длинные пути, но я не нахожусь нигде. Таков смысл вопроса, который задал мой бенефактор.
Есть ли у этого пути сердце? Если есть, то это хороший путь: если нет, то от него никакого толку. Оба пути ведут никуда, но у одного есть сердце, а у другого — нет.
Один путь делает путешествие по нему радостным: сколько ни странствовать, ты и твой путь нераздельны. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь.
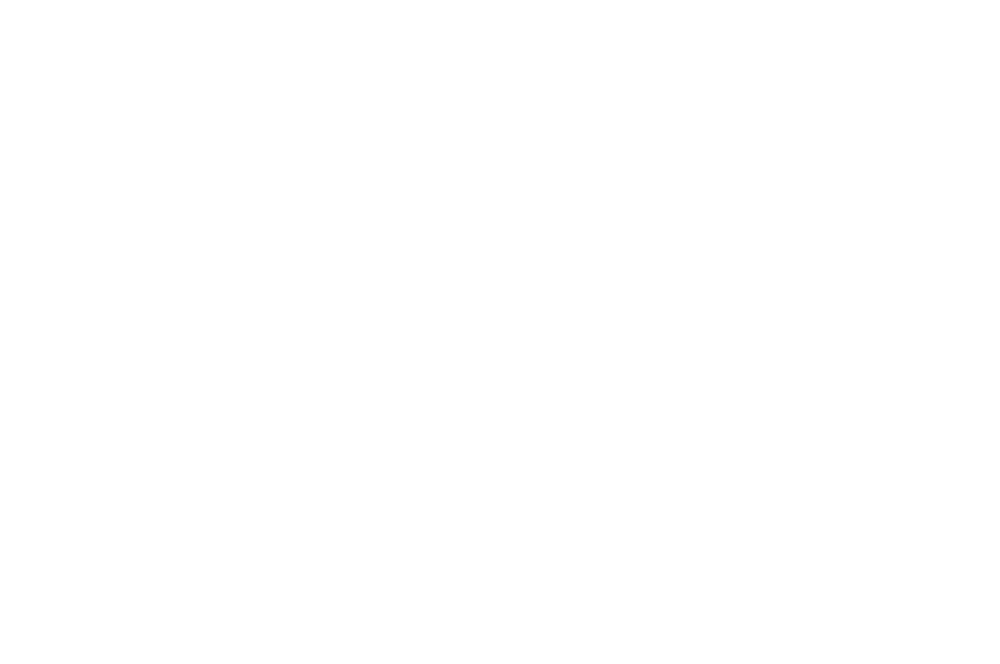
— Прежде чем ты решишься на этот путь, спроси себя: имеет ли он сердце? Если ответ будет — нет, значит так оно и есть, и нужно искать другой путь.
— Но как я смогу наверняка узнать, имеет ли этот путь сердце?
— Это может любой. Беда в том, что никто не задает себе этот вопрос; обычно человек слишком поздно понимает, что выбрал путь без сердца, когда уже стоит на краю гибели. В этой точке лишь очень немногие имеют силы оставить свою устремленность и отойти.
— Как правильно задать себе этот вопрос?
— Просто задай его.
— Я имею в виду, существует ли какой-нибудь специальный метод, чтобы я не обманулся и не принял отрицательный ответ за положительный?
— Почему это ты обманешься?
— Ну, скажем, потому, что в этот момент путь будет казаться приятным и радостным.
— Чушь. Путь без сердца никогда не бывает радостным. Уже для того, чтобы на него выйти, приходится тяжело работать. Напротив, путь, у которого есть сердце, всегда легкий: чтобы его полюбить, не нужно особых усилий.
Тут он вдруг заявил, что «трава дьявола» мне очень нравится, и я был вынужден признать, что во всяком случае испытываю к ней предпочтение. А как я отношусь к его союзнику — дымку, спросил он, и мне пришлось сказать наконец, что сама мысль о нем наводит на меня дикий страх.
— Что я говорил: когда выбираешь путь, надо быть свободным от страха и честолюбия; но дымок ослепляет тебя страхом, а «трава дьявола» — честолюбием.
Я возразил, что честолюбие необходимо даже для того, чтобы выйти на какой угодно путь, и что его утверждение, будто следует быть свободным от честолюбия, не имеет смысла. Чтобы учиться, уже необходимо честолюбие.
— Желание учиться — это не честолюбие, — сказал дон Хуан. — Стремление к познанию — наша судьба, потому что мы люди; но искать «траву дьявола» — значит стремиться к силе, а не к познанию. А это и есть честолюбие.
Смотри, чтобы «трава дьявола» тебя не ослепила. Она завлекает мужчин и даёт им ощущение силы, с нею они уверены, что могут совершать такие вещи, которые обычному человеку не снились. Но в этом её ловушка. А потом путь без сердца обернётся против человека и его уничтожит.
Тогда я следую ему, и единственный достойный вызов — пройти его до последней пяди.
И я странствую и гляжу без конца, бездыханный.
Содержание
Часть первая
Подготовка к видению
Глава 1— мальчишки
Глава 2 — хитрость, подарок
Глава 3 — путь воина и смерть
Глава 4 — контролируемая глупость
Глава 5 — контролируемая глупость
Глава 6 — неосторожность, дон Хенаро
Часть вторая
Задача видения
Глава 7 — другого пути нет
Глава 9 — обещание, ожидание
Глава 10 — воля, отрешённость
— Ты что-нибудь знаешь об окружающем тебя мире? — спросил он.
— Ну, я знаю многое…
— Нет, я имею в виду другое. Ты когда-нибудь ощущаешь мир вокруг себя?
— Насколько могу.
— Этого недостаточно.
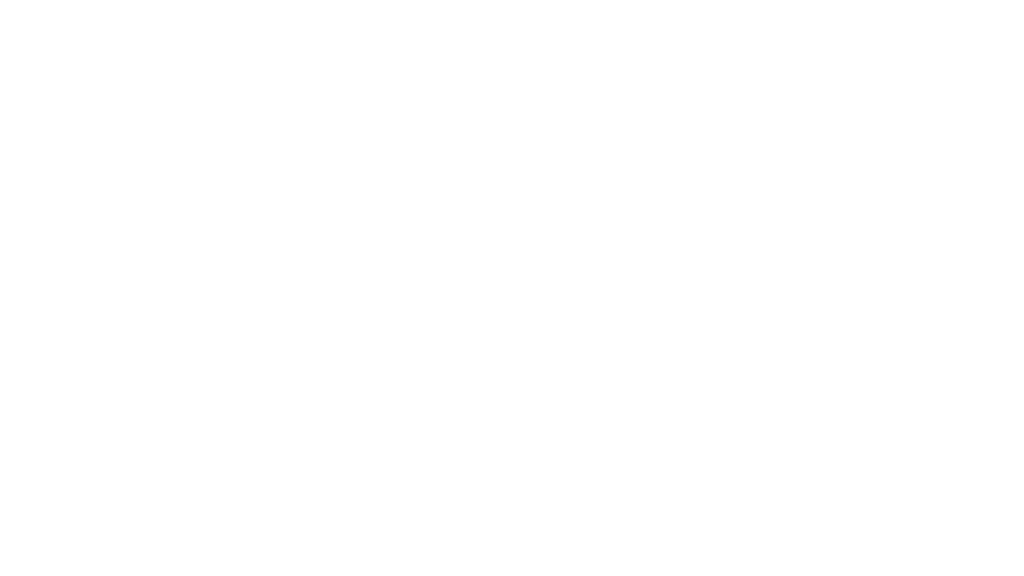
— Ты заставляешь это звучать глупо, — сказал дон Хуан, — Насколько я понимаю, ты намерен цепляться за свои доводы, хотя они ничего тебе не дают.
— Я говорю о том, что в тебе нет целостности. В тебе нет покоя.
Его слова вызвали у меня раздражение. Я почувствовал себя оскорблённым. В конце концов, кто он такой, чтобы судить о моих поступках или о моей личности?
— Ты измучен проблемами, — сказал он. — Почему?
— Я всего лишь человек, дон Хуан, — сказал я.
Я придал этой фразе интонацию, с которой её произносил мой отец. Он говорил так в тех случаях, когда хотел сказать, что слаб и беспомощен. Поэтому в его словах, как и в моих сейчас, всегда звучали отчаяние и безысходность.
Дон Хуан посмотрел на меня так же, как тогда на автостанции.
— Ты слишком много думаешь о своей персоне, — сказал он и улыбнулся. — А из-за этого возникает та странная усталость, которая заставляет тебя закрываться от окружающего мира и цепляться за свои аргументы. Поэтому кроме проблем у тебя не остаётся ничего. Я тоже всего лишь человек, но когда я это говорю, то имею в виду совсем не то, что ты.
— Тогда что же?
— Я разделался со своими проблемами. Очень плохо, что жизнь коротка, и я не успею прикоснуться ко всему, что мне нравится. Но это не проблема; это просто сожаление.
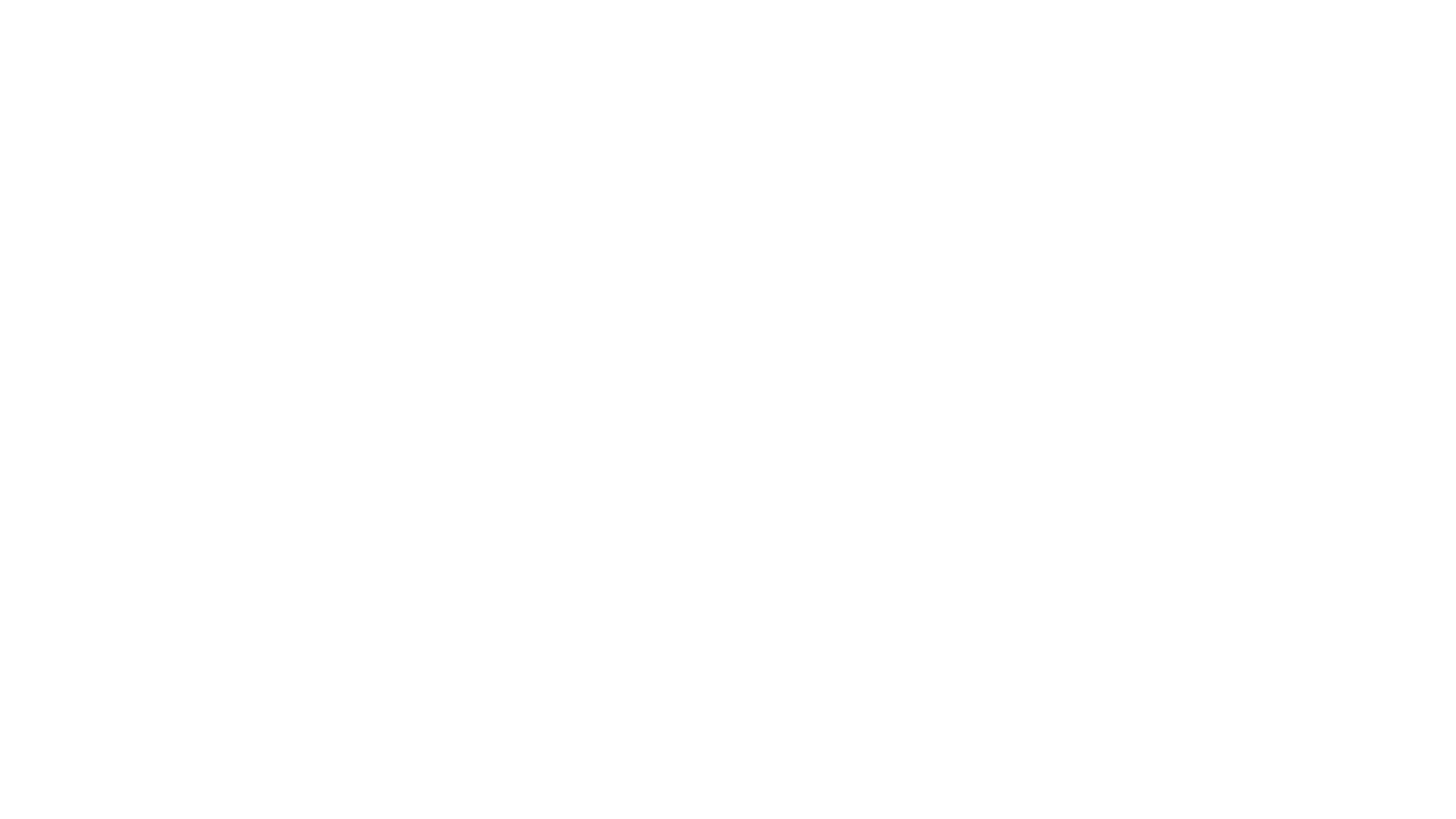
В процессе обучения дон Хуан использовал три достаточно известных психотропных растения: пейот, дурман обыкновенный и один из видов грибов, обладающих галлюциногенным действием. Комбинируя эти средства в определённой последовательности, дон Хуан вводил меня, своего ученика, в специфические состояния искажённого восприятия или изменённого сознания. Я назвал их «состояниями необычной реальности».
«Реальности» — потому что согласно описанию мира, на котором была основана практическая система дона Хуана, всё, что воспринималось в этих состояниях, было не галлюцинациями, а конкретными, хотя и необычными, аспектами повседневной реальности. Дон Хуан рассматривал события, происходившие в необычной реальности, не как якобы реальные, но как вполне реальные.
Обучение по методу дона Хуана требовало огромных усилий со стороны ученика. Фактически, необходимая степень участия и вовлечённости была столь велика и связана с таким напряжением, что в конце 1965 года мне пришлось отказаться от ученичества.
Лишь теперь, по прошествии пяти лет, я могу сформулировать причину — к тому моменту учение дона Хуана представляло собой серьёзную угрозу моей «картине мира». Я начал терять уверенность, которая свойственна каждому из нас: реальность повседневной жизни перестала казаться мне чем-то незыблемым, само собой разумеющимся и гарантированным.
К моменту ухода я был убеждён, что моё решение окончательно: я больше не хотел встречаться с доном Хуаном. Однако в апреле 1968 я получил сигнальный экземпляр своей первой книги и почему-то решил, что должен показать её дону Хуану. Я приехал к нему, и наша связь «учитель-ученик» загадочным образом возобновилась.
Так начался второй цикл моего ученичества, разительно отличавшийся от первого. Мой страх был теперь уже не таким острым, как раньше. Да и дон Хуан вёл себя гораздо мягче. Он много смеялся сам и смешил меня, как бы специально стараясь свести на нет всю серьёзность процесса обучения.
Он шутил даже в наиболее критические моменты второго цикла, и это помогло мне пройти через исключительно жёсткие ситуации, которые при неблагоприятном исходе вполне могли бы вылиться в серьезные психические расстройства.
Такой подход диктовался жизненной необходимостью находиться в лёгком и спокойном расположении духа, иначе я не смог бы выдержать напор и чужеродность нового знания.
— Ты испугался и удрал потому, что чувствовал себя чертовски важным, — так дон Хуан объяснил мой уход. — Чувство собственной важности делает человека безнадёжным: тяжёлым, неуклюжим и пустым.
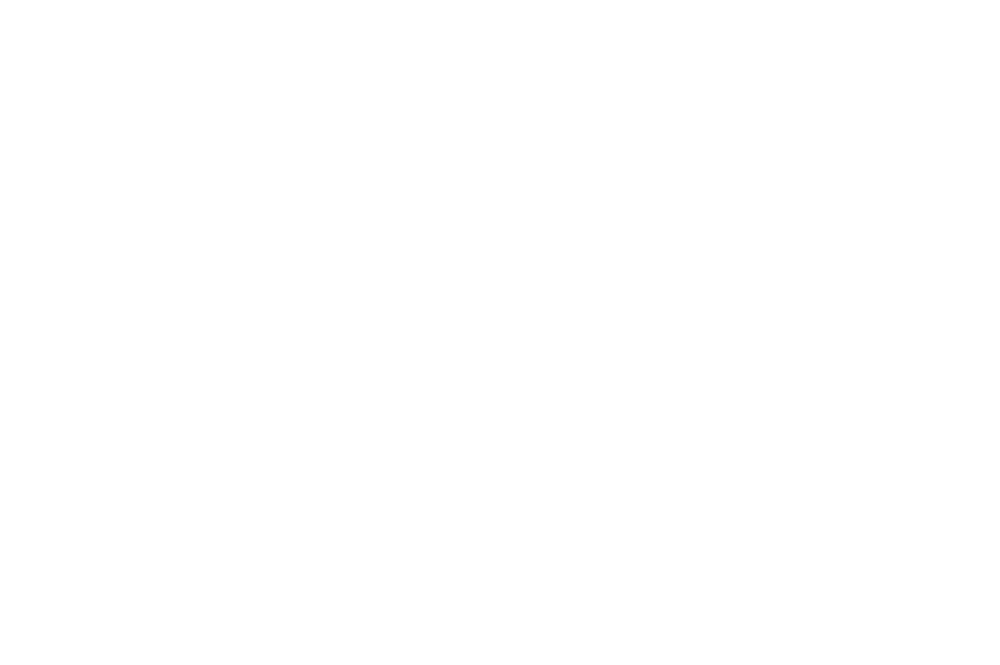
Тогда как второе обозначало обычный для всех нас способ восприятия, под первым понимался некий сложный процесс, позволявший человеку знания непосредственно воспринимать глубинную сущность явлений.
Чтобы привести свои полевые записи в удобочитаемый вид, я сократил диалоги и убрал всё второстепенное. Надеюсь, что это не отразилось на степени соответствия моего изложения истинной сути учения дона Хуана.
Моя редакция была направлена на то, чтобы, сохраняя естественность живой беседы и максимально отражая внутреннее психологическое содержание событий, средствами репортажа донести до читателя весь драматизм и напряжённость процесса обучения.
Во втором цикле дон Хуан приложил значительные усилия, чтобы убедить меня в невозможности научиться видеть без курения смеси. Поэтому мне приходилось делать это довольно часто.
— Только дым может дать тебе необходимую скорость, чтобы уловить отблеск того текучего мира, — говорил дон Хуан.
С помощью психотропной смеси он вводил меня в определённые состояния необычной реальности. Основной их характеристикой было то, что я мог бы назвать «несоответствием», так как воспринимаемое мной в этих состояниях не поддавалось никакой адекватной интерпретации в рамках нашего привычного мироописания. Другими словами, именно это несоответствие повлекло за собой разрушение цельности моего мировоззрения.
Дон Хуан использовал свойство «несоответствия» состояний необычной реальности для ознакомления меня с новыми «смысловыми блоками» или отдельными элементами той системы знания, которой он меня обучал.
Я назвал их так, потому что это были базовые комплексы сенсорных данных и их интерпретаций, на основе которых строились более сложные понятийные структуры. Смысловые блоки особым образом объединялись в группы, которые я назвал «чувственными интерпретациями».
Очевидно, что в магии существует бесконечное количество вариантов чувственных интерпретаций, которым должен обучиться маг. Ему необходимо уметь на основе магических смысловых блоков адекватно интерпретировать всё воспринимаемое. В своей повседневной жизни мы также сталкиваемся с бесконечным количеством чувственных интерпретаций, свойственных нашему описанию мира.
Простой пример: понятие «комната», используемое ежедневно и многократно. В силу многолетней практики нам не нужно каждый раз специально интерпретировать структуру, понимаемую под комнатой. Мы привыкли воспринимать её как нечто цельное и само собой разумеющееся. Но так или иначе комната остаётся чувственной интерпретацией, так как упоминая о ней, мы каждый раз в каком-то виде осознаём все элементы, которые дают то, что называется в нашем понимании комнатой.
Таким образом, чувственная интерпретация — это процесс, посредством которого практикующий осознаёт смысловые блоки, необходимые для того, чтобы выносить суждения, делать выводы и предсказания во всех ситуациях, связанных с его деятельностью.
Под практикующим я понимаю всякого, кто обладает адекватным знанием всех или почти всех смысловых блоков, входящих в его систему чувственной интерпретации. Дон Хуан был практикующим, то есть магом, знающим все шаги своей магической практики. Как практикующий, он стремился сделать доступной мне свою систему чувственной интерпретации.
В данном случае это было равносильно введению меня в новую социальную среду с присущими ей новыми способами интерпретации сенсорных данных. Именно эти способы мне и предстояло освоить.
Я был здесь «чужим», то есть не умел составлять разумные и адекватные интерпретации из магических смысловых блоков.
Чтобы сделать свою систему понятной, дон Хуан как практикующий должен был сначала разрушить во мне определенную уверенность. Речь идёт о свойственной подавляющему большинству людей уверенности в том, что наше основанное на «здравом смысле» описание мира окончательно и однозначно.
Используя психотропные растения и точно рассчитанные контакты между мной и чуждой системой, он добился своего — я убедился, что мое описание мира не может быть окончательным, поскольку является лишь одним из множества возможных интерпретаций.
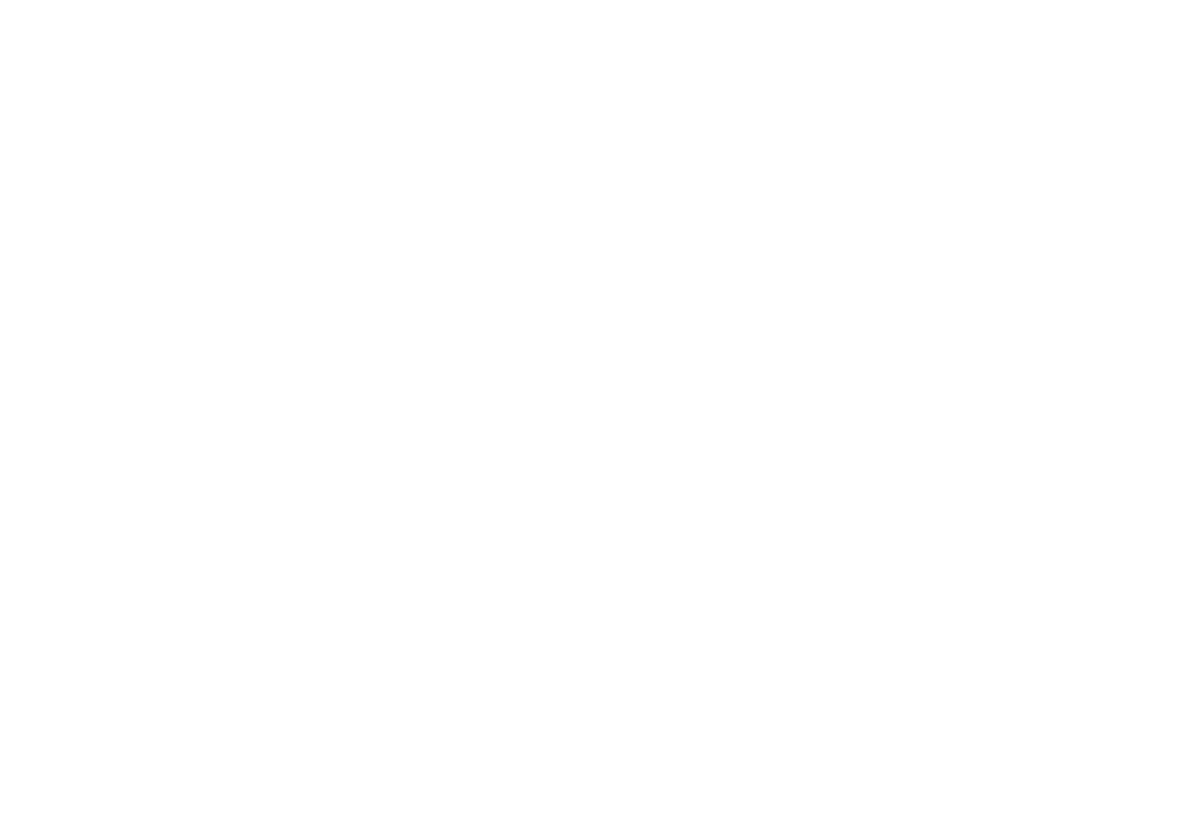
Однажды дон Хуан сказал мне, что человеку знания свойственна предрасположенность. Я попросил объяснить.
— Я предрасположен к видению, — сказал он.
— Что ты имеешь в виду?
— Мне нравится видеть, — пояснил он, — потому что видение позволяет человеку знания знать.
— И что же ты видишь?
— Всё.
— Но я тоже всё вижу, а ведь я — не человек знания.
— Нет, ты не видишь.
— Мне кажется, что вижу.
— А я тебе говорю, что нет.
— Что заставляет тебя так говорить?
— Ты только смотришь на поверхность вещей.
— То есть ты хочешь сказать, что человек знания видит насквозь всё, на что он смотрит?
— Нет. Я не это имел в виду. Я говорил о том, что каждому человеку знания свойственна его собственная предрасположенность. Я — вижу и знаю, другие делают что-нибудь своё.
— Например?
— Возьмём, например, Сакатеку. Он — человек знания, и он предрасположен к танцу. Он танцует и знает.
— Насколько я понял, предрасположенность относится к чему-то, что человек знания делает, чтобы знать?
— Верно.
— Но как танец может помочь Сакатеке знать?
— Можно сказать, что Сакатека танцует со всем, что его окружает и со всем, что у него есть.
— Он танцует так же, как я? Я хочу сказать — как вообще танцуют?
— Скажем так: он танцует так, как я вижу, а не так, как мог бы танцевать ты.
— А он видит так же, как ты?
— Да, но он ещё и танцует.
— И как танцует Сакатека?
— Трудно объяснить… Своего рода танец, особые движения, которые он выполняет, когда хочет знать. Невозможно говорить о танце или о видении, не зная путей и способов действия человека знания. Это всё, что я могу сказать тебе сейчас.
— Ты видел его, когда он танцует?
— Да. Но тот, кто просто смотрит на него, когда он это делает, не в состоянии видеть, что это — его способ знать.
Я знал Сакатеку, по крайней мере, мне было известно, кто это. Мы встречались, и однажды я даже покупал ему пиво. Он был очень вежлив и сказал, что я могу останавливаться в его доме, если захочу. Я давно уже хотел к нему заехать, но дону Хуану ничего об этом не говорил.
Днём 14 мая 1962 года я подъехал к дому Сакатеки. Найти его было несложно, потому что Сакатека мне всё подробно объяснил. Дом стоял на углу и был окружен забором. Я подёргал запертые ворота и обошёл вокруг, пытаясь заглянуть внутрь дома. Похоже было на то, что там никого нет.
— Дон Элиас! — громко крикнул я. Испуганные куры с диким кудахтаньем разбежались по двору. К забору подошла собачка. Я подумал, что сейчас поднимется лай. Но собачка молча уселась на землю и стала меня разглядывать. Я позвал ещё раз, и куры опять раскудахтались.
Из дома вышла пожилая женщина. Я попросил её позвать дона Элиаса.
— Его нет дома, — сказала она.
— А где его можно найти?
— Он в поле.
— Где именно?
— Не знаю. Зайдите попозже, ближе к вечеру. Он будет дома около пяти.
— А вы — жена дона Элиаса?
— Да, я его жена, — ответила она и улыбнулась. Я попытался было расспросить её о Сакатеке, но она извинилась и сказала, что неважно говорит по-испански. Тогда я сел в машину и уехал.
Около шести я вернулся, подъехал к двери, вылез из машины и окликнул Сакатеку. На этот раз из дома вышел он сам. Я включил магнитофон, висевший у меня через плечо. В коричневом кожаном футляре он был похож на кинокамеру. Сакатека вроде бы узнал меня.
— А, это ты, — сказал он, улыбаясь. — Как там Хуан?
— Нормально. А как ваше здоровье, дон Элиас?
Сакатека промолчал. Мне показалось, что он нервничает. Внешне он вроде был в порядке, но я чувствовал, что с ним что-то происходит.
— У тебя поручение от Хуана? — Нет, я сам приехал.
— С чего это вдруг?
В его вопросе сквозило искреннее удивление.
— Ну, просто хотел с вами поговорить… — сказал я, стараясь говорить как можно естественнее.
— Дон Хуан рассказывал мне о вас удивительные вещи, я заинтересовался и хотел бы задать несколько вопросов.
Сакатека стоял передо мной. Худое жилистое тело, рубашка и штаны цвета хаки. Глаза полузакрыты. Он выглядел то ли сонным, то ли пьяным. Рот был слегка приоткрыт, нижняя губа отвисла. Я заметил, что он глубоко дышит и едва не похрапывает. Спятил, что ли? Однако мысль эта казалась совершенно неуместной, так как минуту назад, выйдя из дома, он был не только очень бодр, но и вполне осознавал моё присутствие.
— О чём ты хочешь говорить? — спросил он наконец.
Голос его был усталым, казалось, он с трудом выдавливает из себя слова. Мне стало не по себе, словно усталость эта была заразной и перешла на меня.
— Ни о чём особенном. Просто приехал побеседовать с вами по-дружески, вы же меня сами приглашали.
— Да, но это — другое.
— Почему же другое?
— Разве ты не говорил с Хуаном? — Говорил.
— Тогда чего ты хочешь от меня?
— Я думал, может… Ну, я хотел задать вам несколько вопросов…
— Задай Хуану. Разве он тебя не учит?
— Он-то учит, но всё равно мне хотелось бы спросить вас о том, чему он меня учит, и узнать ещё и ваше мнение. Тогда бы я лучше знал, как мне быть.
— Зачем это тебе? Ты не веришь Хуану?
— Верю.
— Тогда почему не спрашиваешь о том, что тебя интересует, у него?
— Я так и делаю, и он отвечает. Но если бы вы тоже рассказали мне о том, чему он меня учит, может быть, мне было бы понятнее.
— Хуан может рассказать тебе всё. И никто, кроме него, это сделать не может. Неужели ты не понимаешь?
— Понимаю. Но мне хотелось бы поговорить и с такими людьми, как вы. В конце-то концов, не каждый же день встречаешься с человеком знания.
— Хуан — человек знания.
— Я знаю это.
— Тогда зачем тебе говорить со мной? — Я же сказал — приехал просто так, по-приятельски, что ли…
— Ты приехал не за этим. Сегодня в тебе есть что-то другое.
Я ещё раз попытался объясниться, но вышло только невнятное бормотание. Сакатека молчал. Казалось, он внимательно слушает. Глаза его снова были полузакрыты, но я чувствовал, что он пристально на меня смотрит. Он едва заметно кивнул, затем веки его приподнялись, и я увидел
глаза. Взгляд их был направлен куда-то вдаль.
Как бы машинально он постукивал по земле носком правой ноги позади левой пятки, слегка согнув ноги в коленях и расслабленно опустив руки вдоль туловища. Он медленно поднял правую руку, повернув раскрытую ладонь к земле.
Выпрямив пальцы, он вытянул руку в моем направлении. Она пару раз качнулась, а затем поднялась на уровень моего лица. На мгновение Сакатека застыл в этой позе, а затем что-то мне сказал. Слова он произносил очень чётко, но я ничего не понял.
Через секунду Сакатека расслабленно уронил руку вдоль туловища и застыл в странной позе: вес тела он перенёс на носок левой ступни, а правую поставил за левой крест-накрест, мягко и ритмично постукивая её носком по земле.
Меня охватило какое-то странное чувство, своего рода беспокойство. Мысли начали как бы распадаться на части. В голову лезла какая-то бессмыслица, обрывки чего-то, никак не связанного с происходящим.
В общем-то отдавая себе отчёт, что со мной творится что-то неладное, я попытался вернуть мысли к реальности, но безуспешно, несмотря на напряженную борьбу. Ощущение было такое, что какая-то сила не позволяет мне сосредоточиться и мешает связно мыслить.
Сакатека упорно молчал, и я не знал, что делать дальше. Совершенно автоматически я повернулся и ушёл.
Позднее я почувствовал, что непременно должен рассказать об этой истории дону Хуану. Он смеялся от души.
— Что это было? Что происходило на самом деле? — спросил я.
— Сакатека танцевал, — ответил дон Хуан. — Он увидел тебя, и потом танцевал.
— Что он делал? Я ощущал холод и дрожь.
— Ты ему явно не понравился, и он остановил тебя, бросив в тебя слово.
— Как он мог это сделать? — недоверчиво спросил я.
— Очень просто. Он остановил тебя своей волей.
Объяснение меня не удовлетворило, потому что показалось бессмысленным. Я попытался расспрашивать ещё, но он так и не сказал ничего вразумительного.
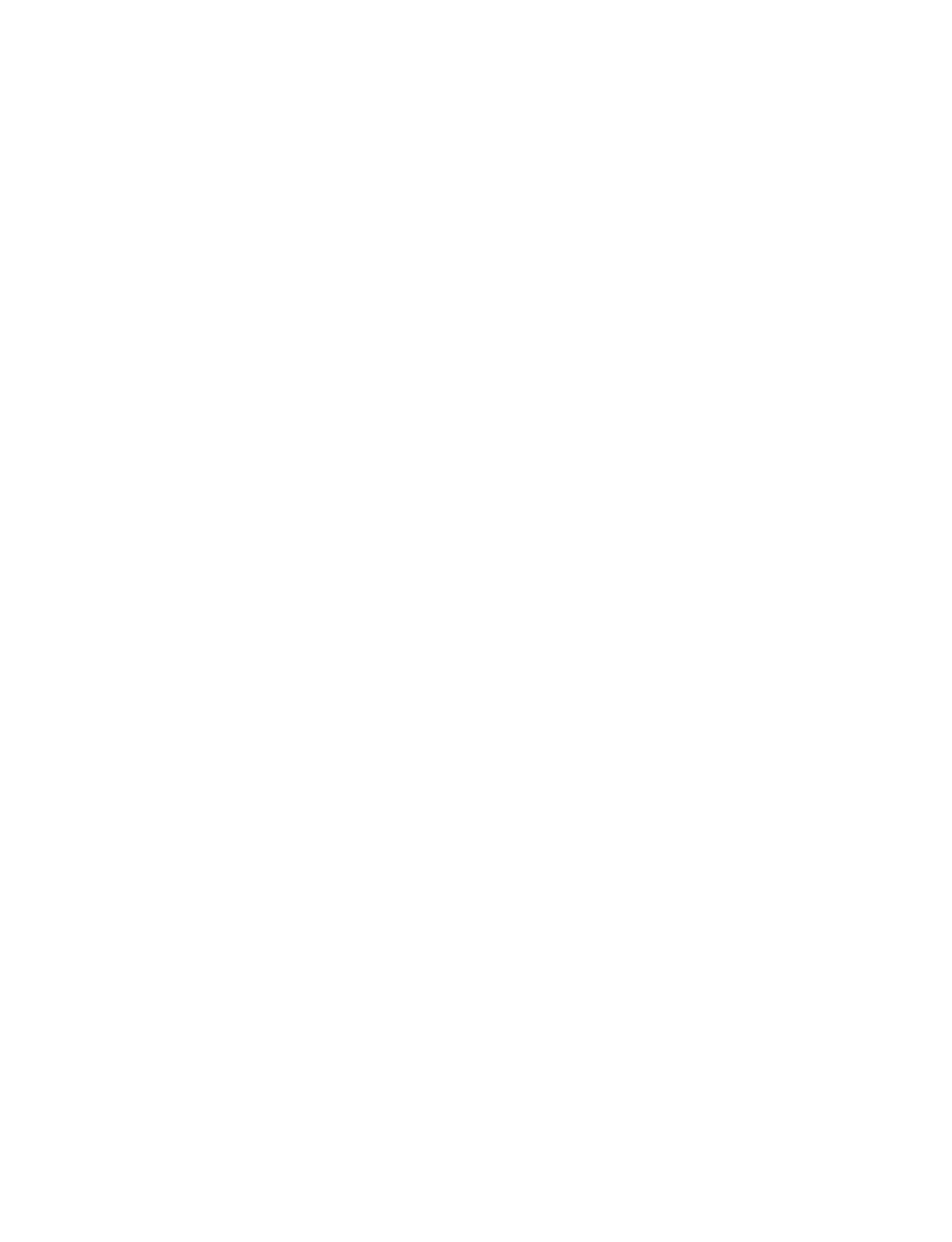
Поэтому читать эту книгу следует как репортаж, поскольку именно таковым она и является. Я не владел системой, которую описывал, и потому претензия на что-то большее была бы несостоятельной и вводила бы читателя в заблуждение. В этом смысле я старался придерживаться феноменологического метода, относясь к магии сугубо как к явлению, с которым мне довелось столкнуться. Я воспринимал нечто и описывал то, что воспринимал, воздерживаясь от каких бы то ни было суждений.
На окраине одного города у меня сломалась машина, и мне пришлось задержаться на три дня, пока её ремонтировали. Напротив автомастерской был мотель, но окраины всегда действуют на меня угнетающе, и я снял номер в современном восьмиэтажном отеле в центре.
Посыльный сказал, что в отеле есть ресторан. Спустившись туда, я увидел, что часть столиков вынесена на свежий воздух под красивые кирпичные арки современной архитектуры на углу улицы.
Было довольно прохладно, и некоторые столики стояли свободными. Однако я предпочёл остаться в душном помещении, так как сквозь раскрытую входную дверь заметил мальчишек — чистильщиков обуви. Они сидели на бордюре перед рестораном, и я был уверен, что стоит мне выйти и занять один из наружных столиков, как они тут же начнут приставать со своими щётками.
Я сидел у окна и прекрасно видел мальчишек. Подошли двое молодых людей и сели за один из столиков. Мальчишки тут же окружили их, предлагая почистить обувь. Те отказались и, к моему удивлению, мальчишки не стали настаивать и молча уселись обратно на бордюр.
Немного погодя встали и ушли трое мужчин в деловых костюмах. Мальчишки подбежали к их столику и стали жадно доедать объедки. Несколько секунд — и тарелки были чистыми. То же повторилось с объедками на остальных столиках.
Я заметил, что дети были весьма аккуратны. Если они проливали воду, то промокали ее своими фланельками для чистки обуви. Я также отметил тотальность поглощения ими объедков, — они съедали все вчистую, даже кубики льда, оставшиеся в стаканах, ломтики лимона из чая и кожуру от фруктов.
За время, пока я жил в отеле, я обнаружил, что между детьми и хозяином ресторана существует нечто вроде соглашения. Детям было позволено околачиваться у заведения, подзарабатывать чисткой обуви посетителей, а также доедать остатки пищи на столиках, но при условии, что они никого не рассердят и ничего не разобьют.
В течение трех дней я наблюдал, как они, словно стервятники, набрасываются на самые непривлекательные объедки, и в конце концов искренне расстроился. Покидал я город с тяжёлым чувством горечи по поводу того, что у этих детей нет никакой надежды — их мир уже изуродован ежедневной борьбой за кусок хлеба.
— Ты их жалеешь? — удивлённо воскликнул дон Хуан.
— Разумеется.
— Почему?
— Потому что мне небезразлична судьба моих ближних. Эти мальчики — совсем ещё дети, а их мир так уродлив и мелок.
— Постой, постой! С чего это ты взял, что их мир уродлив и мелок? — спросил дон Хуан, передразнивая меня, — Или ты считаешь, что твой — лучше?
Я ответил, что именно так и считаю. Он поинтересовался, на основании чего. Тогда я сказал, что по сравнению с миром этих детей мой — бесконечно разнообразнее и богаче событиями и возможностями для личного удовлетворения и совершенствования.
Смех дона Хуана был искренним и дружелюбным. Он сказал, что я неосторожен в суждениях, так как ничего не знаю и не могу знать о богатстве и возможностях мира этих детей.
Я решил, что дон Хуан просто упрямится. Я действительно думал, что он встал на противоположную точку зрения только затем, чтобы меня позлить, и совершенно искренне считал, что у этих детей нет ни малейших шансов на интеллектуальное развитие. Ещё некоторое время я отстаивал свою точку зрения, а затем дон Хуан резко спросил:
— Разве не ты говорил мне как-то, что стать человеком знания — высшее из всех достижений, доступных человеческому существу?
Я действительно говорил это, и повторил вновь, что стать человеком знания — высочайшее интеллектуальное достижение.
— Ты полагаешь, что твой очень богатый мир способен тебе в этом хоть чем-нибудь помочь? — спросил дон Хуан с некоторым сарказмом.
Я не ответил, и тогда он сформулировал тот же вопрос другими словами — приём, которым я всегда пользовался сам, когда думал, что он не понимает.
— Иначе говоря, — продолжал он, широко улыбаясь и, видимо, понимая, что я уловил намёк, — помогут ли тебе твоя свобода и твои возможности стать человеком знания?
— Нет! — твёрдо ответил я.
— Тогда с какой стати ты жалеешь этих ребят? — спросил он серьёзно. — Любой из них может стать человеком знания. Все известные мне люди знания были такими же детьми и так же поедали объедки и вылизывали тарелки.
Я почувствовал неудобство. Моя жалость к этим детям была обусловлена вовсе не тем, что им нечего есть, а тем, что, по моему мнению, они были обречены своим миром на умственную неполноценность. И тут дон Хуан заявляет, что каждому из них доступно то, что я считаю высочайшим из всех возможных человеческих достижений, — любой из них может стать человеком знания. Дон Хуан поддел меня очень точно.
— Видимо, ты прав, — произнёс я. — Но как быть с искренним желанием помочь ближним?
— Каким же, интересно, образом можно им помочь?
— Облегчая их ношу. Самое малое, что мы можем сделать для них, — это попытаться их изменить. Сам-то ты разве не этим занимаешься?
— Ничего подобного. Я понятия не имею, зачем и что можно изменить в моих ближних.
— Как насчёт меня, дон Хуан? Разве ты учишь меня не для того, чтобы я смог измениться?
— Нет. Я не пытаюсь изменить тебя. Возможно, что когда-нибудь ты станешь человеком знания, — этого нельзя узнать заранее, — но это никак не изменит тебя. Может быть, однажды ты научишься видеть, и тогда, увидев людей на другом плане, ты поймёшь, что в них невозможно ничего изменить.
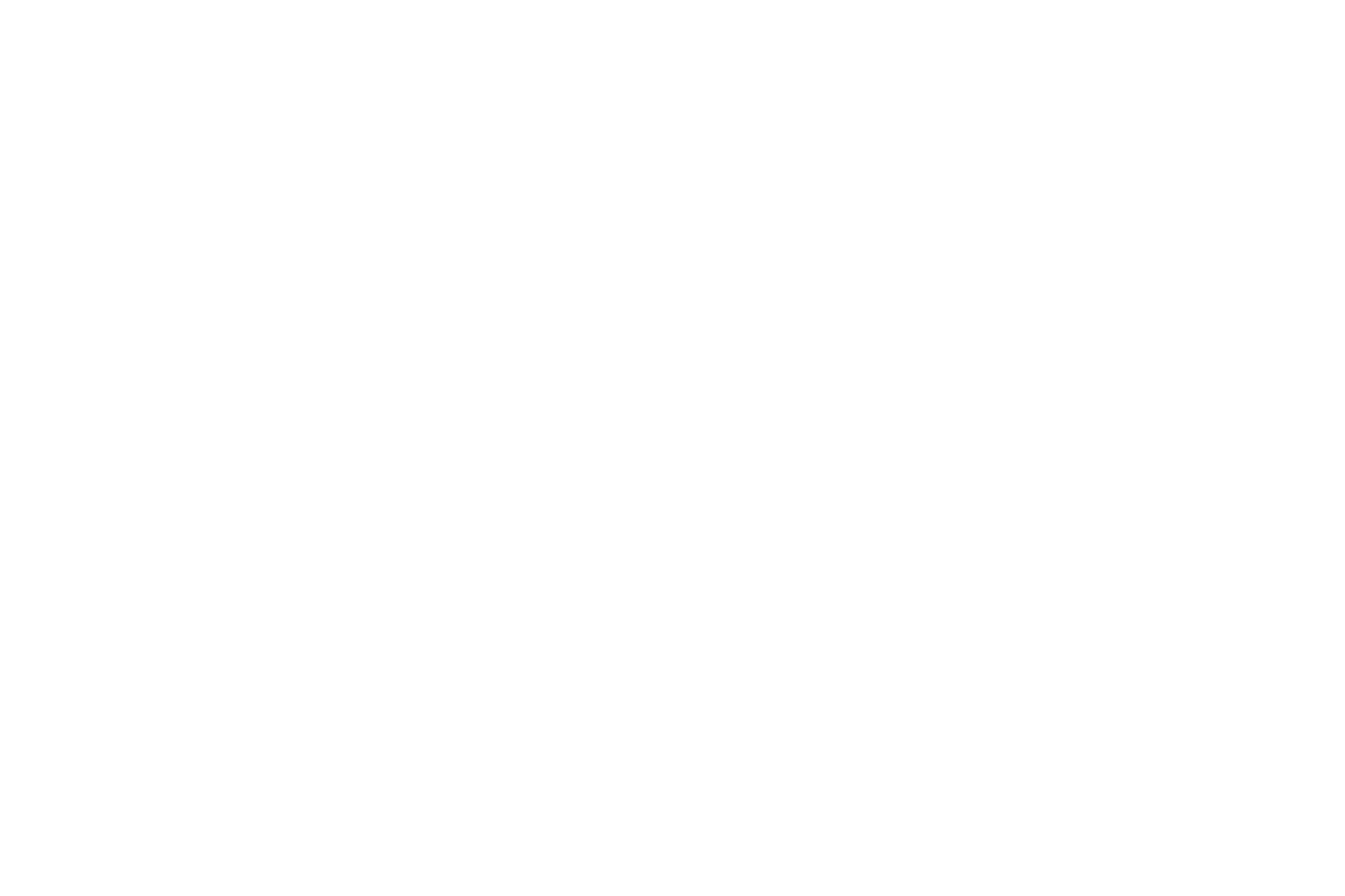
Мы уселись на чистой площадке перед домом. Был тёплый ясный день. Довольно сильный вечерний ветерок обвевал нас приятной прохладой.
— Что заставляет тебя так яростно сопротивляться? — неожиданно спросил дон Хуан. — Сколько лет уже ты твердишь, что не намерен больше учиться?
— Три года.
— Почему ты всегда говоришь об этом с такой страстью?
— У меня такое чувство, что я предаю тебя, дон Хуан. Наверное, потому я так часто все это повторяю.
— Ты меня не предаешь.
— Я тебя подвел. Я бежал. Я чувствую, что потерпел поражение.
— Ты делаешь все, что можешь, и никакого поражения ты не потерпел. То, чему я должен тебя научить, дается с огромным трудом. Мне, например, было еще тяжелее, чем тебе.
— Но ты другой. Ты победил страх. Дон Хуан мягко похлопал меня по плечу.
— Ты не боишься, — сказал он. В его голосе слышалось странное обвинение.
— Но разве я лгу насчет страха, дон Хуан?
— Лжешь, не лжешь — меня это не интересует, произнес он сурово. — Меня волнует другое. Ты не хочешь учиться вовсе не потому, что боишься. Причина в другом.
Мне страшно хотелось узнать, в чем же дело. Я пытался выудить из него ответ, но он только молча покачал головой, как бы не в силах поверить, что я не знаю этого сам.
Я сказал ему, что всему виной, должно быть, моя инерция. Он поинтересовался значением слова «инерция». Я взял в машине словарь и прочитал: «Тенденция материального объекта, не подверженного воздействию внешних сил, к сохранению состояния покоя, если оно находится в покое, либо движения в неизменном направлении, если оно движется».
— Не подверженного воздействию внешних сил, — повторил он. — Лучше, пожалуй, и не скажешь… Только дырявый горшок может пытаться стать человеком знания по своей воле.
— Да, но эти не в счет. Обычно они уже с трещиной. Как пересохшая бутыль из тыквы, которая с виду в порядке, но начинает течь, как только в нее наливают воду и появляется давление. Когда-то я втянул тебя в учение хитростью, и то же самое в свое время сделал со мною мой бенефактор. Если бы не мой трюк, ты бы никогда не сумел столь многому научиться.
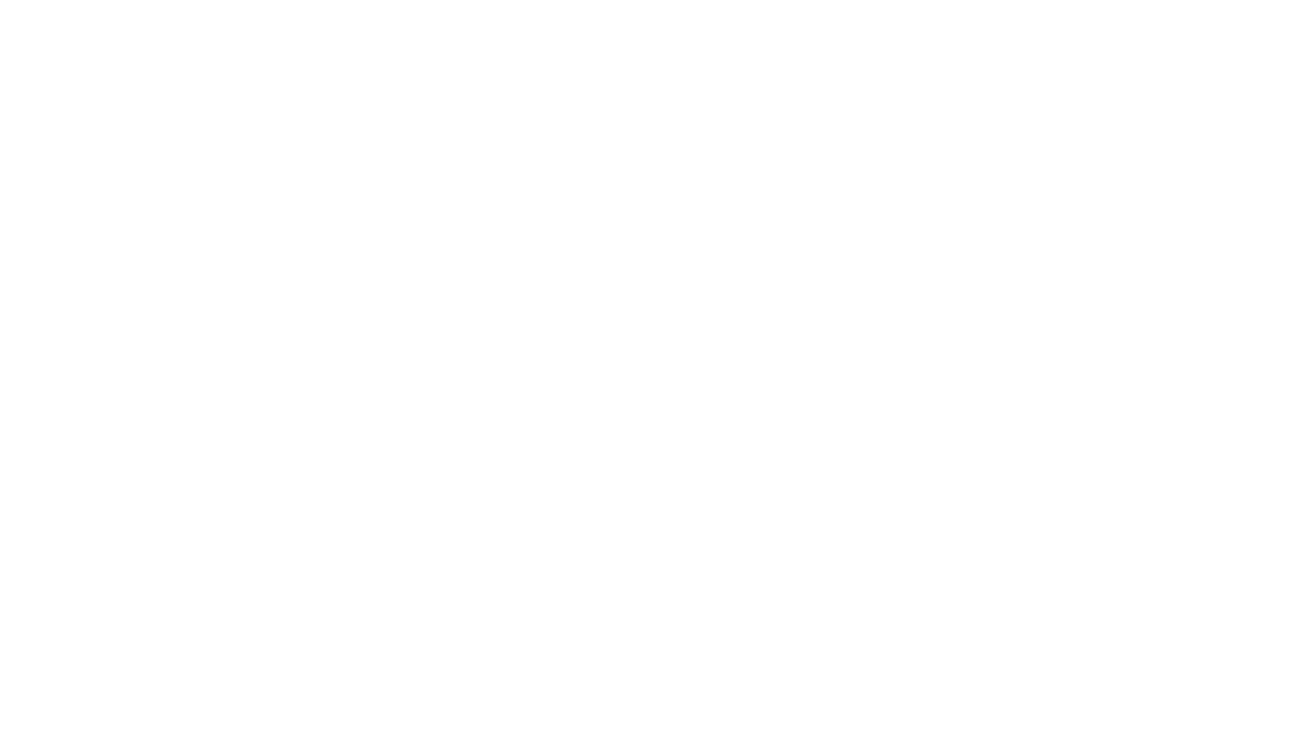
Дон Хуан покрутил головой и полушутливым тоном выразил свое крайнее изумление по поводу того, что он назвал «хранящим меня везением». Он сказал, что мой «поход» к дону Висенте выглядит примерно так же, как если б я забрался в клетку со львами, вооружившись хворостинкой.
Дон Хуан казался возбужденным, хотя я не видел никаких причин для беспокойства. Дон Висенте прекрасный человек. Он выглядел таким хрупким, даже почти эфемерным, наверное из-за странно призрачных глаз. Я спросил дона Хуана, каким образом такой замечательный человек мог быть опасным.
— Ты чертовски глуп! — сказал он, жестко взглянув на меня. — Конечно, сам он не сделает тебе ничего плохого. Но знание — это сила.
Дон Хуан продолжал. — Когда Висенте увидел тебя, он сделал тебе подарок, а ты поступил с этим подарком, как собака поступает с едой, когда у нее набито брюхо. Наевшись вдоволь, она мочится на пищу, чтобы ее не съели другие собаки. И теперь мы никогда не узнаем, что же это было на самом деле. Ты многое потерял.
Он помолчал немного, пожал плечами и усмехнулся.
— Я тебя понял, дон Хуан, — сказал я. — Что я могу сделать, чтобы спасти подарок?
Он засмеялся и несколько раз повторил «спасти подарок».
— Звучит здорово, — сказал он. — Мне нравится. Но все же спасти твой подарок ничто не в силах.
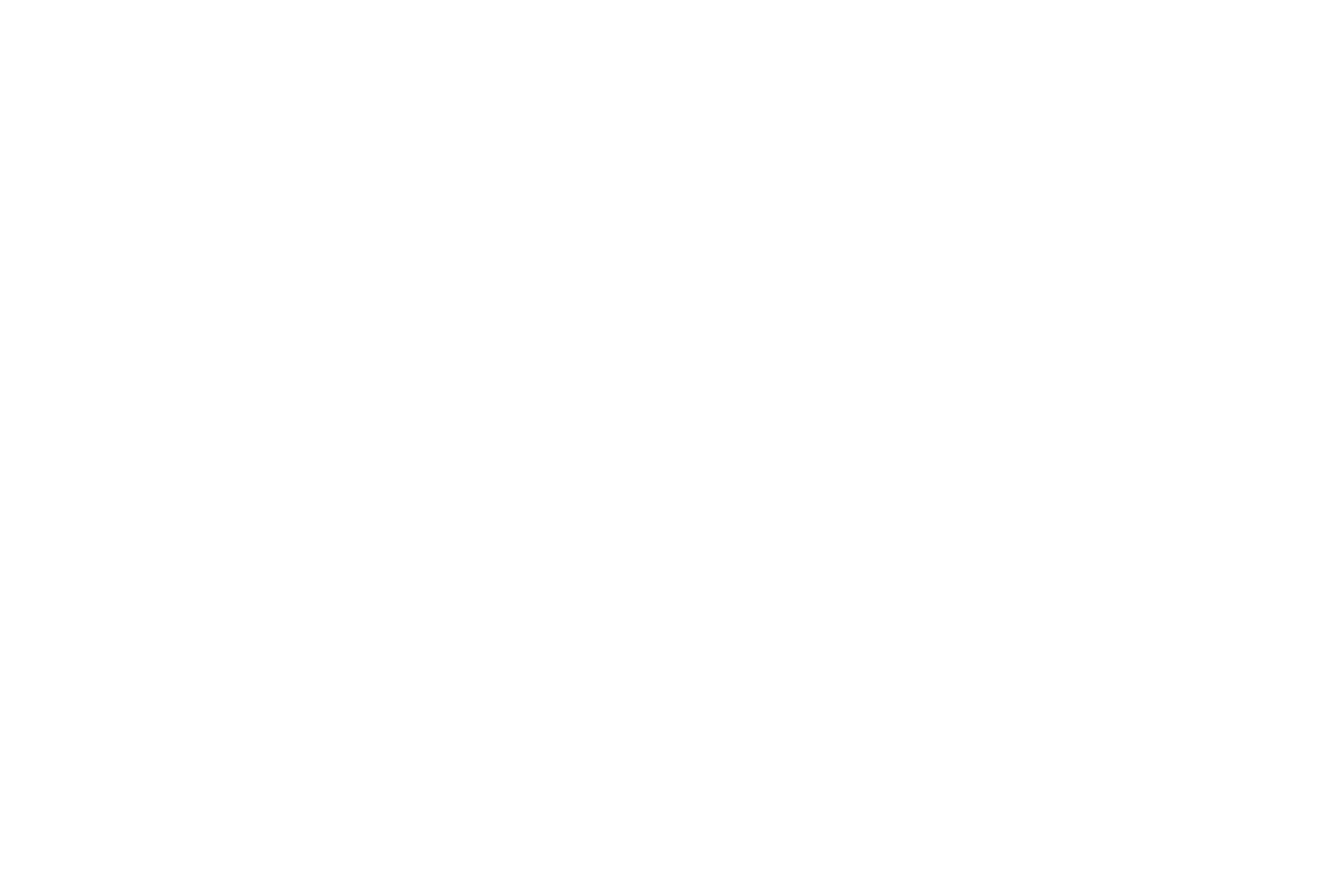
— Собираясь в Мексику, тебе следовало распрощаться со всеми своими страхами, к которым ты так неравнодушен, — очень жестко сказал он.
— Твое решение должно было уничтожить их. Ты приехал, потому что хотел приехать. Так поступают на пути воина. Я много раз тебе говорил: быть воином — это самый эффективный способ жить.
Это — путь воина.
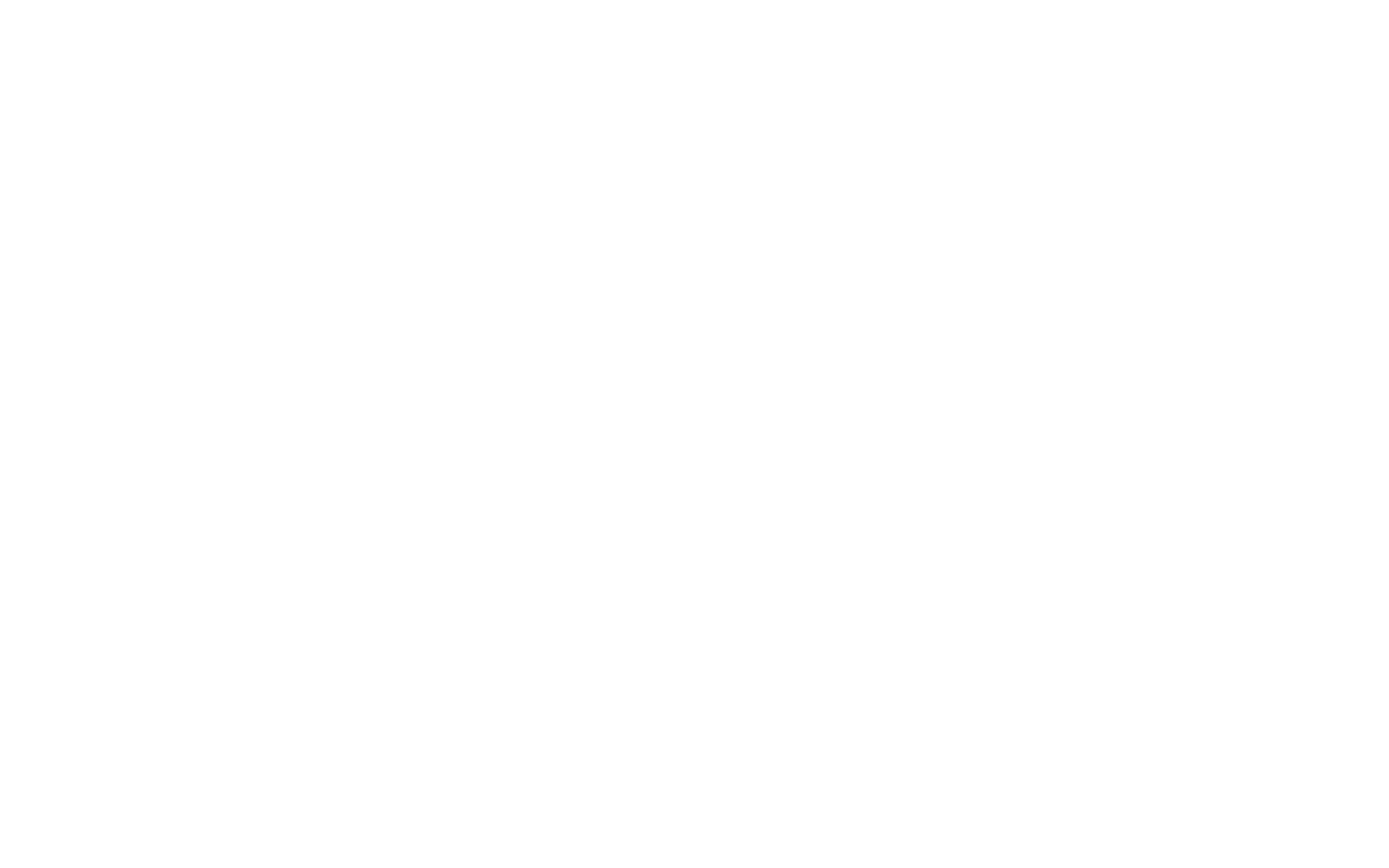
— Когда воина начинают одолевать сомнения и страхи, он думает о своей смерти.
— Это еще труднее, дон Хуан. Для большинства людей смерть — это что-то неясное и далекое. Мы никогда всерьез не думаем о ней.
— Почему?
— А зачем?
— Зачем? Потому что идея смерти — единственное, что способно закалить наш дух.
Когда мы покидали Лос Виридос, было уже настолько темно, что зубчатые силуэты гор полностью растворились в небе. Больше часа мы ехали молча. Я устал. Говорить не хотелось, да и разговаривать было в общем-то не о чем.
За все это время только несколько машин проехало по пустынной дороге нам навстречу. Казалось, что на юг по этому ночному шоссе, кроме нас, не ехал никто. Это было странно, и время от времени я поглядывал на зеркало заднего обзора, надеясь увидеть в нем хотя бы одну машину. Однако трасса позади нас была совершенно пустынной.
Спустя некоторое время я оставил это занятие и вернулся к размышлениям о перспективах нашей поездки. Вдруг я заметил, что свет моих фар стал каким-то слишком ярким на фоне окружающей тьмы. Я взглянул в зеркало и увидел яркое сияние. Затем словно из-под земли вырвались два снопа света.
Это были фары машины на вершине холма позади нас. Некоторое время они были видны, а затем исчезли в темноте, будто их выключили. Через секунду они появились на другом бугре и снова исчезли. Так они то появлялись, то исчезали, а я следил за ними почти неотрывно, и это продолжалось довольно долго.
В какой-то миг мне стало ясно, что та машина позади догоняет нас. Огни стали больше и ярче. Я до упора выжал педаль газа. Мне почему-то было не по себе.
Дон Хуан, казалось, заметил мою озабоченность, а может, его внимание привлекло то, что я увеличил скорость. Он взглянул на меня, потом повернулся и посмотрел на фары позади нас.
Он спросил, все ли со мной в порядке. Я ответил, что на протяжении несколько часов позади не было ни одной машины, а потом я неожиданно заметил свет фар машины, которая, похоже, все время нас догоняет. Дон Хуан кивнул и спросил:
— А ты уверен, что нас догоняет машина?
— Разумеется.
Дон Хуан сказал, что по моему тону и моему озабоченному виду он понял, что я чувствую — нас догоняет не просто машина. Я настаивал на том, что ничего такого не чувствую, а догоняет нас просто машина или трейлер.
— Ну что это еще может быть? — нервно спросил я.
Его намеки вывели меня из себя.
Он повернулся и посмотрел прямо не меня, потом медленно кивнул, как бы взвешивая то, что собирался сказать.
— Это огни на голове смерти, — сказал он мягко. — Она надевает их наподобие шляпы, прежде чем пуститься в галоп. То, что ты видишь позади — это огни на голове смерти, которые она зажгла, бросившись в погоню за нами. Смерть неуклонно преследует нас, и с каждой секундой она все ближе и ближе.
У меня по спине пробежал озноб. Какое-то время я не смотрел назад, а когда снова взглянул в зеркало, огней нигде не было видно.
Я сказал дону Хуану, что машина, должно быть, остановилась или свернула в сторону. Он не глянул назад, а лишь потянулся и зевнул.
— Нет.
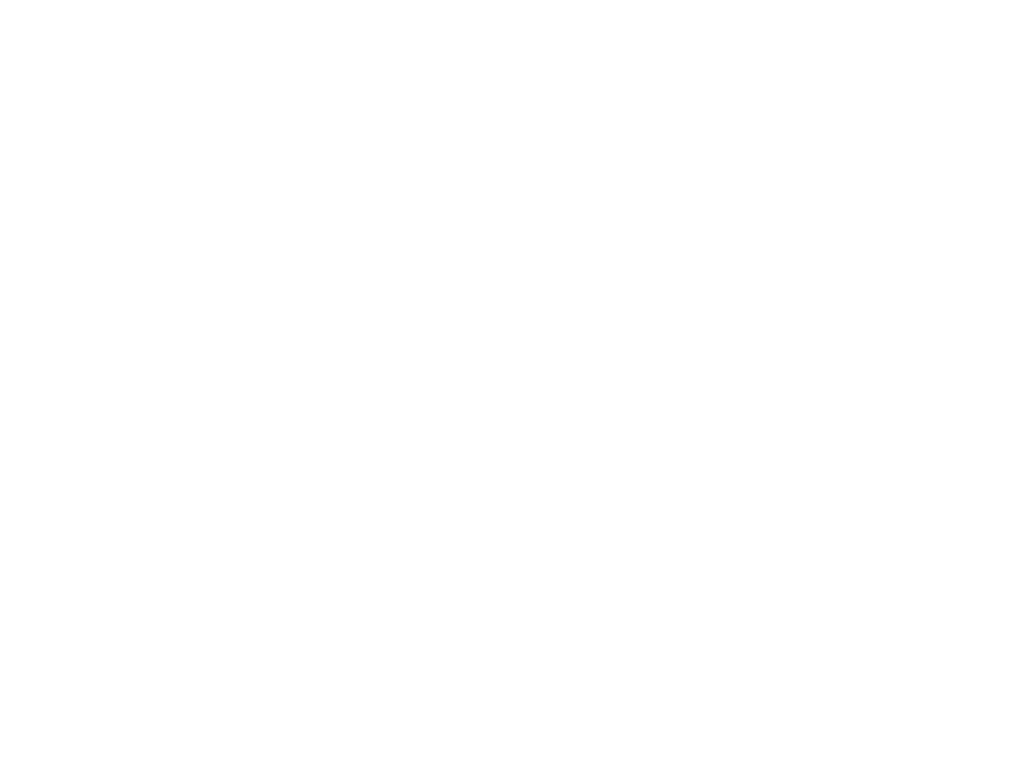
— А если его заколдовать?
— Заколдовать? Зачем?
— Чтобы вернуть ему мужество.
— Нет. Человека нельзя сделать мужественным. Можно сделать безвредным, больным, немым. Но никакая магия и никакие ухищрения не в силах превратить человека в воина.
Элихио мирно похрапывал под мешками. Уже совсем рассвело. В пронзительной голубизне неба не было ни облачка.
— Что угодно отдам, только бы узнать, где был Элихио, — сказал я. — Ты не возражаешь, если я расспрошу его о ночном путешествии?
— Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах ты не должен этого делать.
— Но почему? Я же рассказываю тебе обо всех своих переживаниях.
— Это — совсем другое. Ты не склонен держать все при себе. Элихио — индеец. Это путешествие — единственное, что у него есть. Жаль, конечно, что не Лусио…
— И что, ничего нельзя сделать, дон Хуан?
— Ничего. Невозможно вставить в медузу кости. Я поступал глупо.
Появилось солнце, розово-оранжевым светом резанув по утомленным глазам.
— Тысячу раз ты говорил мне, дон Хуан, что маг не может делать глупостей. Вот уж не думал, что ты на это способен. Дон Хуан пронзительно взглянул на меня, встал и посмотрел на Элихио, потом перевел взгляд на Лусио и с улыбкой сказал:
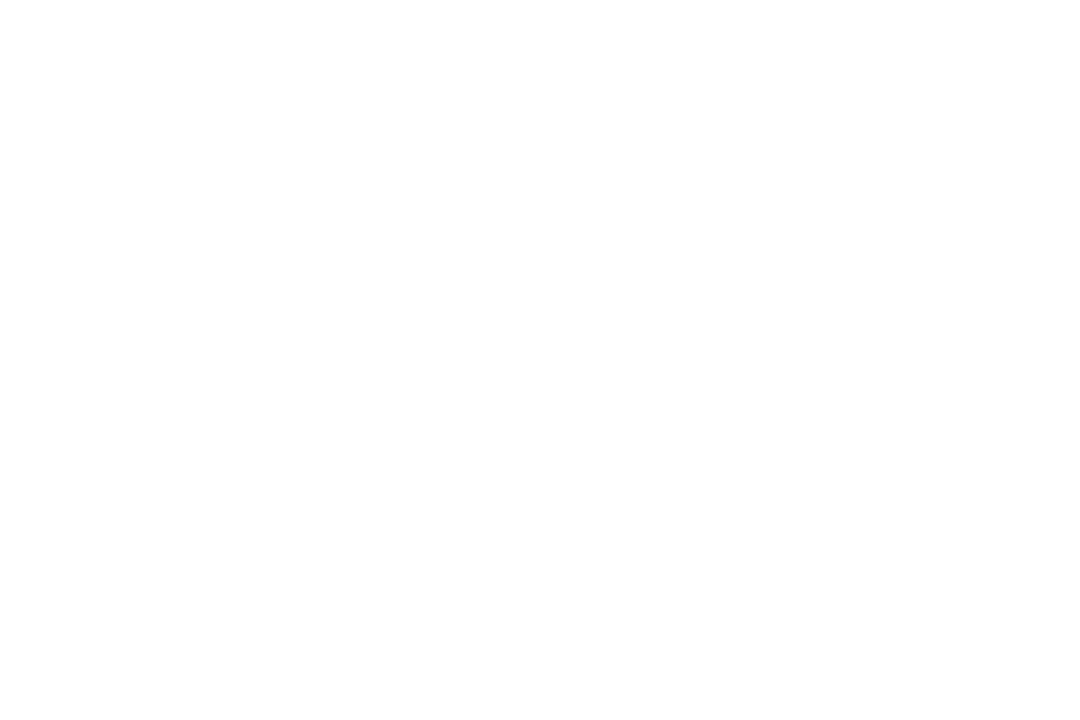
— Что именно тебя интересует?
— Расскажи, пожалуйста, что это вообще такое — контролируемая глупость.
Дон Хуан громко рассмеялся и звучно хлопнул себя по ляжке сложенной лодочкой ладонью.
— Вот это и есть контролируемая глупость, — со смехом воскликнул он, и хлопнул еще раз.
— Не понял…
— Я рад, что через столько лет ты, наконец, созрел и удосужился задать этот вопрос. В то же время, если б ты никогда этого не сделал, мне было бы все равно. Тем не менее, я выбрал радость, как будто меня в самом деле волнует, спросишь ты или нет. Словно для меня это важнее всего на свете. Понимаешь? Это и есть контролируемая глупость.
Мы оба расхохотались. Я обнял его за плечи. Объяснение показалось мне замечательным, хотя я так ничего и не понял.
— По отношению к кому ты практикуешь контролируемую глупость, дон Хуан? — спросил я после продолжительной паузы.
Он усмехнулся.
— По отношению ко всем.
— Хорошо, тогда давай иначе. Как ты выбираешь, когда следует практиковать контролируемую глупость, а когда — нет?
— Я практикую ее все время.
Тогда я спросил, значит ли это, что он никогда не действует искренне, и что все его поступки — лишь актерская игра.
— Мои поступки всегда искренни, — ответил дон Хуан. — И все же они — не более, чем актерская игра.
— Но тогда все, что ты делаешь, должно быть контролируемой глупостью, — изумился я.
— Так и есть, — подтвердил он.
— Но этого не может быть! — возразил я. — Не могут все твои действия быть контролируемой глупостью.
— А почему бы и нет? — с загадочным видом спросил он.
— Это означало бы, что в действительности тебе ни до чего и ни до кого нет дела. Вот, я, например. Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе безразлично, стану я человеком знания или нет, жив я или умер, и что вообще со мной происходит?
— Совершенно верно. Меня это абсолютно не интересует. И ты, и Лусио, и любой другой в моей жизни — не более, чем объекты для практики контролируемой глупости.
На меня нахлынуло какое-то особое ощущение пустоты. Было ясно, что у дона Хуана действительно нет никаких причин заботиться обо мне. С другой стороны, я почти не сомневался, что его интересую я лично. Иначе он не уделял бы мне столько внимания. А может быть, он сказал так потому, что я действую ему на нервы? В конце концов, у него были на то основания: я же отказался у него учиться.
— Я подозреваю, что мы говорим о разных вещах, — сказал я. — Не следовало брать меня в качестве примера. Я хотел сказать — должно же быть в мире хоть что-то, тебе небезразличное, что не было бы объектом для контролируемой глупости. Не представляю, как можно жить, когда ничто не имеет значения.
— Это было бы верно, если бы речь шла о тебе, — сказал он. — Происходящее в мире людей имеет значение для тебя. Но ты спрашивал обо мне, о моей контролируемой глупости. Я и ответил, что все мои действия по отношению к самому себе и к остальным людям — не более, чем контролируемая глупость, поскольку нет ничего, что имело бы для меня значение.
— Хорошо, но если для тебя больше ничто не имеет значения, то как же ты живешь, дон Хуан? Ведь это не жизнь.
Он засмеялся и какое-то время молчал, как бы прикидывая, стоит ли отвечать. Потом встал и направился за дом. Я поспешил за ним. — Постой, но ведь я действительно хочу понять! Объясни мне, что ты имеешь в виду.
— Пожалуй, объяснения тут бесполезны. Это невозможно объяснить, — сказал он. — В твоей жизни есть важные вещи, которые имеют для тебя большое значение. Это относится и к большинству твоих действий. У меня — все иначе. Для меня больше нет ничего важного — ни
вещей, ни событий, ни людей, ни явлений, ни действий — ничего. Но все-таки я продолжаю жить, потому что обладаю волей. Эта воля закалена всей моей жизнью и в результате стала целостной и совершенной. И теперь для меня не важно, имеет что-то значение или нет.
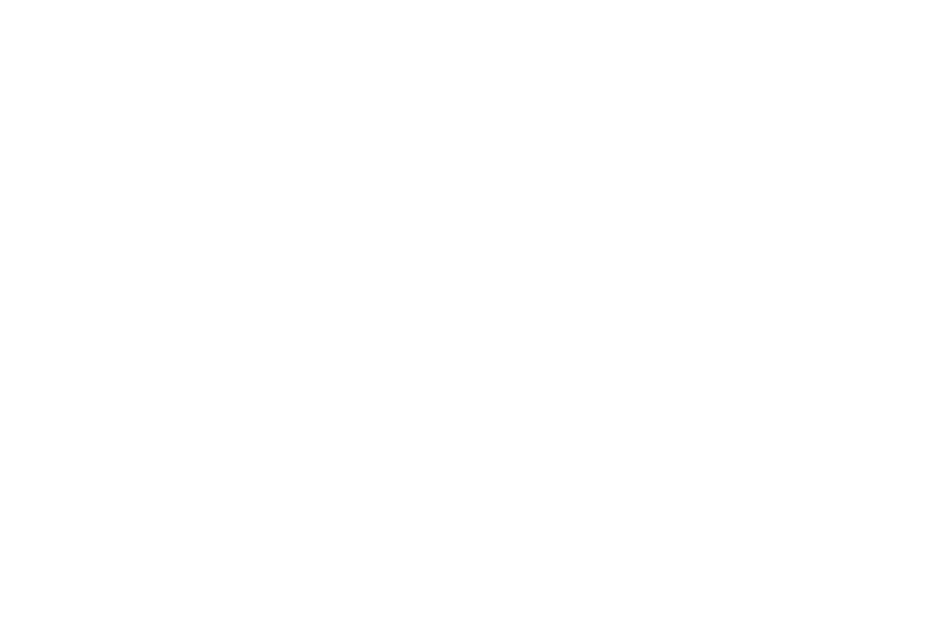
Например, ядерная война. Трудно представить более яркий пример. Стереть с лица земли жизнь — что может быть страшнее?
— Для тебя это так. Потому что ты думаешь, — сверкнув глазами, сказал дон Хуан. — Ты думаешь о жизни. Но не видишь.
— А если б видел — относился бы иначе? — осведомился я.
— Научившись видеть, человек обнаруживает, что одинок в мире. Больше нет никого и ничего, кроме той глупости, о которой мы говорим, — загадочно произнес дон Хуан.
Он помолчал, глядя на меня и как бы оценивая эффект своих слов.
— Твои действия, равно как и действия твоих ближних, имеют значение лишь постольку, поскольку ты научился думать, что они важны. Слово «научился» он выделил какой-то странной интонацией. Я не мог не спросить, что он имеет в виду.
Дон Хуан перестал перебирать растения и посмотрел на меня. — Сначала мы учимся обо всем думать, — сказал он, — А потом приучаем глаза смотреть на то, о чем думаем. Человек смотрит на себя и думает, что он очень важен. И начинает чувствовать себя важным. Но потом, научившись видеть, он осознает, что не может больше думать о том, на что смотрит.
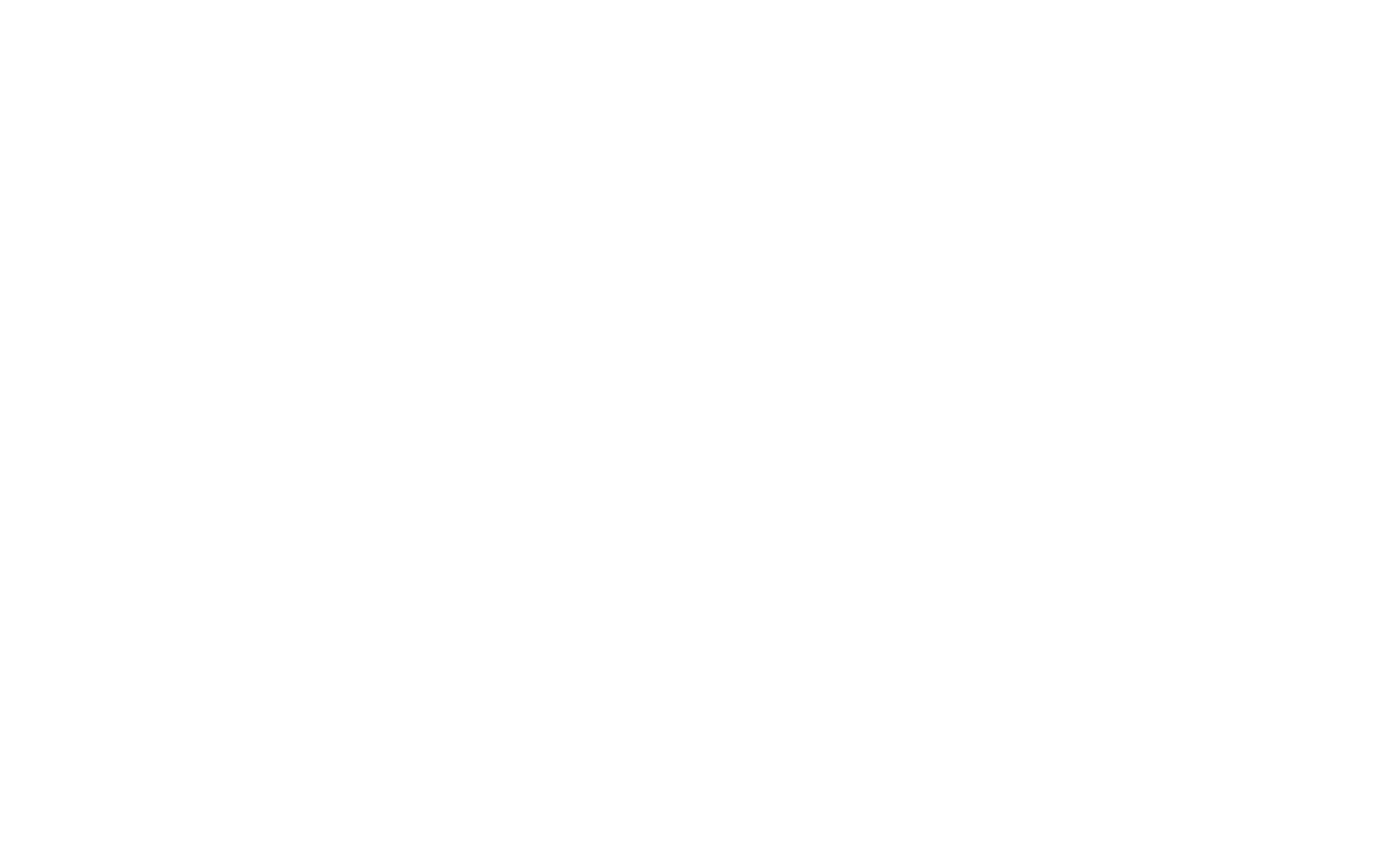
Дон Хуан, похоже, это заметил и мягко похлопал меня по плечу.
— Почистишь вот эти растения, а потом аккуратно покрошишь их сюда, — сказал он, протянув мне большой кувшин, и куда-то ушёл.
Вернулся он через несколько часов. Уже наступил вечер. Давно справившись с растениями, я занимался своими записями, благо времени на это у меня было предостаточно. Я хотел задать ему несколько вопросов, но вместо ответа он сказал, что проголодался, развёл огонь в глиняном очаге и поставил на него кастрюлю с бульоном.
Пошарив по сумкам с продуктами, которые я привёз, дон Хуан вытащил оттуда немного овощей, порезал их на мелкие кусочки и бросил в кастрюлю. После этого он улёгся на свою циновку, сбросил сандалии и попросил меня сесть поближе к очагу и следить за огнём.
Уже почти совсем стемнело. С места, где я сидел, была видна западная часть неба. Края некоторых плотных и почти чёрных посередине облаков были сильно изрезаны и подсвечены невидимым солнцем. Я хотел сказать дону Хуану, какое красивое сегодня небо, но он меня опередил.
— Рыхлые края и плотная середина, — сказал он, указывая на облака.
Его замечание до того совпадало с фразой, которую я намеревался произнести, что я подскочил.
— Я как раз собирался тебе об этом сказать, — проговорил я.
— Один-ноль в мою пользу, — объявил он и засмеялся с детской непосредственностью.
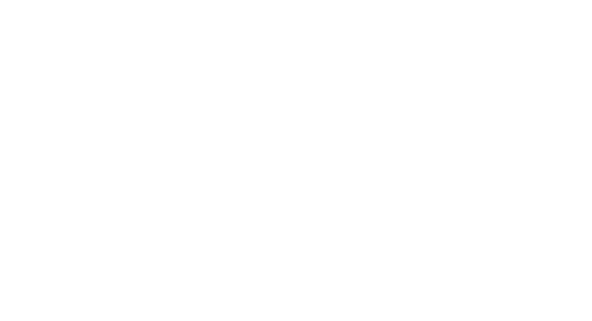
— Что тебя интересует?
— Наша сегодняшняя беседа о контролируемой глупости сбила меня с толку, — сказал я, — Я действительно не могу понять, что ты имеешь в виду.
— И не сможешь. Потому что ты пытаешься об этом думать, а мои слова никак не вяжутся с твоими мыслями.
— Я пытаюсь думать, — сказал я, — потому что для меня это единственная возможность понять. И всё-таки, хочешь ли ты сказать, что как только человек начинает видеть, всё в мире разом теряет ценность?
— Разве я говорил «теряет ценность»? Становится неважным, вот что я говорил. Все вещи и явления в мире равнозначны в том смысле, что они одинаково неважны. Вот, скажем, мои действия. Я не могу утверждать, что они — важнее, чем твои. Так же, как ни одна вещь не может быть важнее другой. Все явления, вещи, действия имеют одинаковое значение и поэтому не являются чем-то важным.
Тогда я спросил, не считает ли он, что видение «лучше», чем простое «смотрение на вещи». Он ответил, что глаза человека могут выполнять обе функции, и ни одна из них не лучше другой.
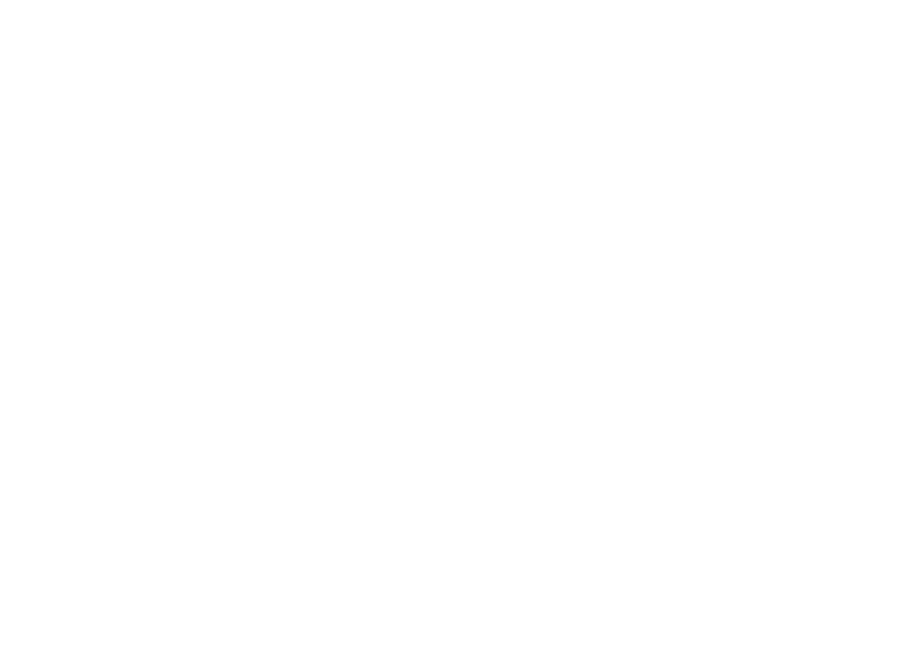
Какое-то время он пристально смотрел на меня.
— Мой смех — самый что ни на есть настоящий, — сказал дон Хуан. — Впрочем, как и все, что я делаю. Но он же — контролируемая глупость, поскольку бесполезен. Он ничего не меняет, но, тем не менее, я смеюсь.
— Но, насколько я понимаю, дон Хуан, твой смех не бесполезен. Он делает тебя счастливым.
— Нет. Я счастлив оттого, что смотрю на вещи, делающие меня счастливым, а потом уже глаза схватывают их забавные стороны, и я смеюсь. Я говорил тебе это много раз.
Я решил, что он имеет в виду противоположность смеха и плача, или хотя бы то, что плач — это действие, которое нас ослабляет. Но дон Хуан заявил, что никакого принципиального различия нет. Просто ему лично больше подходит смех, потому что когда он смеется, тело его чувствует
себя лучше, чем когда он плачет.
Тогда я заметил, что равнозначности здесь все же нет, поскольку есть предпочтение. Если он предпочитает смеяться, а не плакать, то смех — важнее. Но он упрямо твердил, что его предпочтение ничего не значит; они равноценны.
Я заявил, что, доводя наш спор до логического конца, можно сказать: «Если все равнозначно, то почему бы не выбрать смерть?»
— Иногда человек знания так и поступает, — сказал дон Хуан. — И однажды он может просто исчезнуть. В таких случаях люди обычно думают, что его за что-то убили. А он просто выбрал смерть, потому что для него это не имело значения. Я выбрал жизнь. И смех. Причем вовсе не
оттого, что это важно, а потому, что такова склонность моей натуры. Я говорю «выбрал», потому что вижу. Но на самом деле выбрал не я. Моя воля заставляет меня жить вопреки тому, что я вижу в мире.
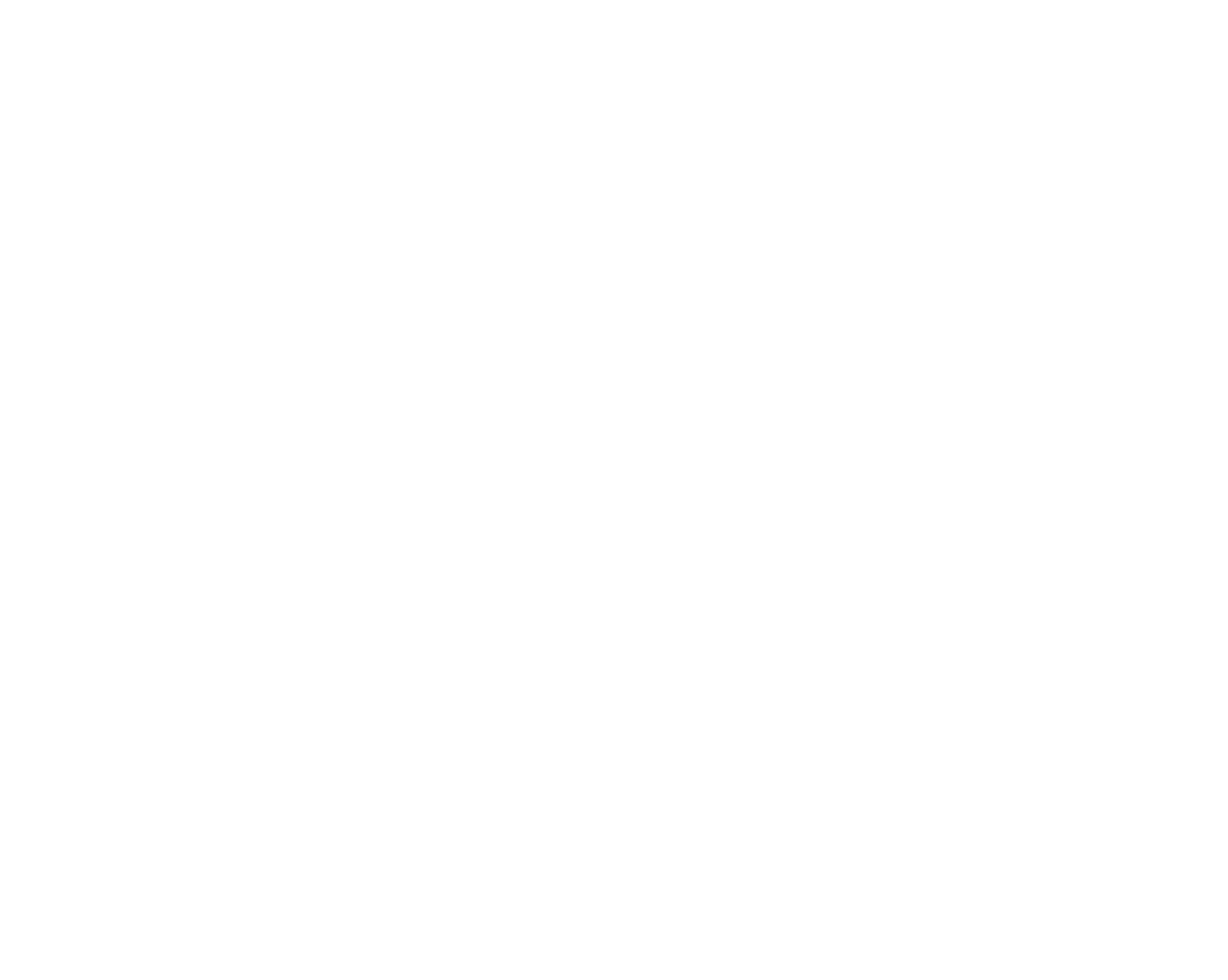
Последняя фраза меня заинтриговала. Я спросил, что он имеет в виду.
Дон Хуан несколько раз дословно повторил её, а потом объяснил, что, говоря «думать», имеет в виду устойчивые постоянные понятия, которые есть у нас обо всём в мире. Он сказал, что видение избавляет от привычки к ним. Но пока я не научусь видеть, мне не удастся понять, о чём идёт речь.
— Но если ничто не имеет значения, дон Хуан, то с какой стати должно иметь значение — научусь я видеть или нет?
— Я уже говорил тебе, что наша судьба как людей — учиться, для добра или зла. Я научился видеть, и говорю, что нет ничего, что имело бы значение. Теперь — твоя очередь. Вполне вероятно, что в один прекрасный день ты научишься видеть, и тогда сам узнаешь, что имеет значение, а что — нет. Для меня нет ничего, имеющего значение, но для тебя, возможно, значительным будет всё. Сейчас ты должен понять:
любой другой, не идёт никуда: и он знает, что всё равнозначно.
У него нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни имени, ни родины. Есть только жизнь, которую нужно прожить. В таких условиях контролируемая глупость — единственное, что может связывать его с ближними.
Поэтому он действует, потеет и отдувается. И взглянув на него, любой увидит обычного человека, живущего так же, как все. Разница лишь в том, что глупость его жизни находится под контролем.
Ничто не имеет особого значения, поэтому человек знания просто выбирает какой-то поступок и совершает его. Но совершает так, словно это имеет значение. Контролируемая глупость заставляет его говорить, что его действия очень важны, и поступать соответственно.
В то же время он прекрасно понимает, что всё это не имеет значения. Так что, прекращая действовать, человек знания возвращается в состояние покоя и равновесия. Хорошим было его действие или плохим, удалось ли его завершить — до этого ему нет никакого дела.
С другой стороны, человек знания может вообще не совершать никаких поступков. Тогда он ведёт себя так, словно эта отстраненность имеет для него значение. Так тоже можно, потому что и это будет контролируемая глупость.
В длинных и путаных выражениях я попытался объяснить дону Хуану, что меня интересуют мотивы, заставляющие человека знания действовать определенным образом вопреки пониманию того, что ничто не имеет значения. Усмехнувшись, он ответил:
— Ты думаешь о своих действиях, поэтому тебе необходимо верить, что действия эти важны настолько, насколько ты их таковыми считаешь. Но в действительности из всего, что человек делает, нет ничего, что имело бы значение. Ничего!
Но как тогда я могу жить? Ведь ты об этом спрашивал? Проще было бы умереть; ты так говоришь и считаешь, потому что думаешь о жизни. Как, например, думаешь сейчас, на что похоже видение. Ты требуешь от меня описания. Такого, которое позволило бы тебе об этом
думать, как ты думаешь обо всем остальном. Но в случае видения думать вообще невозможно. Поэтому мне никогда не удастся объяснить тебе, что это такое.
Теперь по поводу моей контролируемой глупости. Ты хочешь услышать о причинах, которые побуждают меня действовать именно так, но я могу сказать лишь одно — контролируемая глупость очень похожа на видение. Ни о том, ни о другом думать невозможно.
Дон Хуан зевнул, лёг на спину и потянулся, хрустнув суставами.
— Ты слишком долго отсутствовал, — сказал он, — и ты слишком много думаешь.
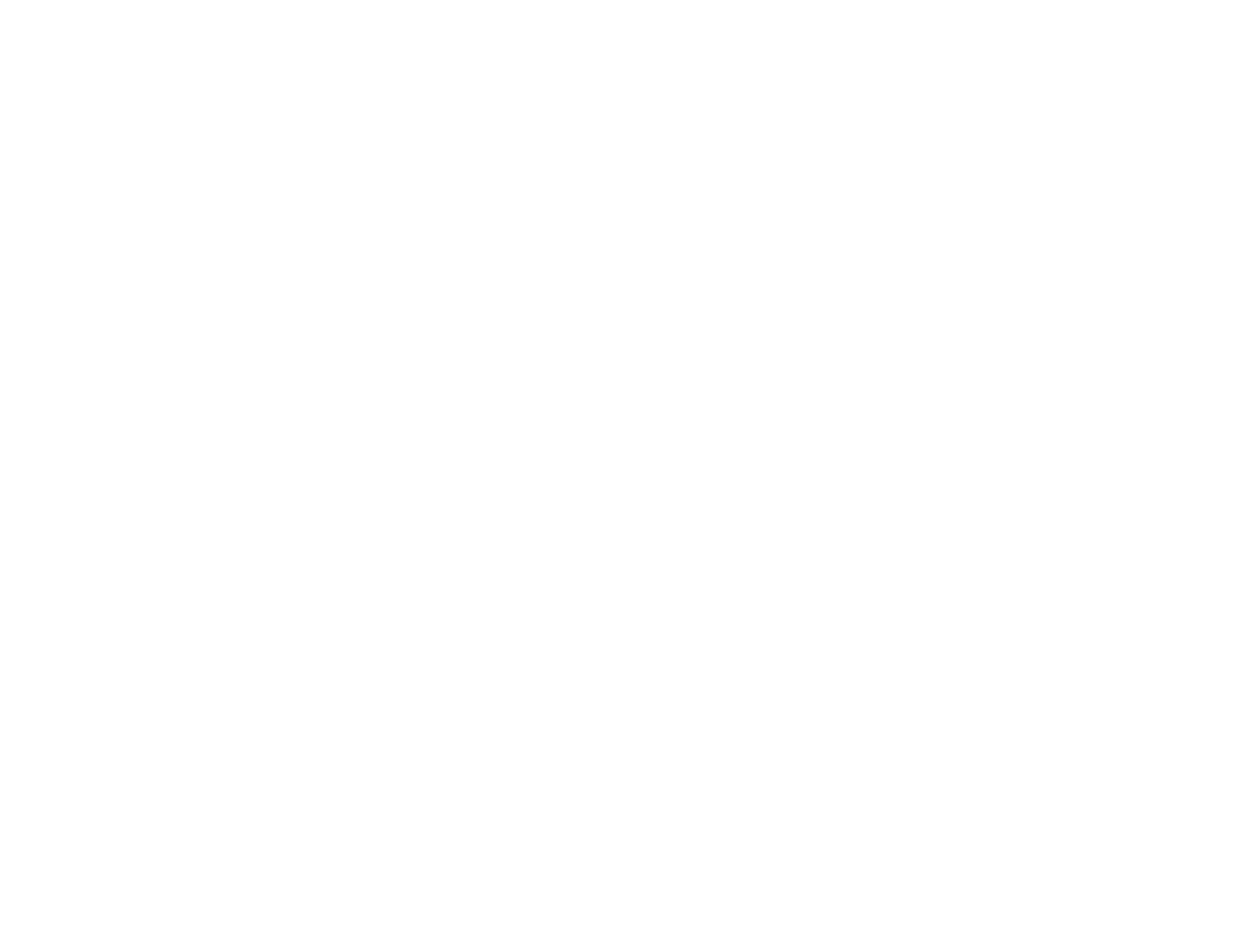
Света от огня в очаге было достаточно, чтобы писать. Красноватые отблески ложились повсюду. Я положил блокнот на землю и лёг рядом. Я устал. Из всего нашего разговора в голове осталось только одно — дону Хуану нет до меня никакого дела.
Это не давало мне покоя. Столько лет я ему верил! Если б не эта вера, меня давно бы уже парализовало от страха при встрече с тем, чему он меня учил. В основе этой веры была твёрдая убеждённость в том, что дон Хуан заботится лично обо мне. По большому счёту я всегда его побаивался, но страх этот мне удавалось подавлять благодаря глубокой вере.
Теперь он сам полностью разрушил основу, на которой строилось моё к нему отношение. Мне не на что было опереться. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Меня охватило какое-то странное беспокойство. Я вскочил и начал возбуждённо ходить возле очага. Дон Хуан всё не приходил, и я с нетерпением ожидал его возвращения.
Наконец он появился и уселся возле огня. Я выложил ему всё о своих страхах: и то, что не могу менять направление, добравшись до середины потока; и то, что вера в него для меня неотделима от уважения к его образу жизни, который по своей сути рациональнее, вернее, целесообразнее моего; и то, что он загнал меня в угол, ввергнув в ужасающий конфликт, потому что его слова заставляют в корне изменить моё отношение и к нему, и ко всему, что с ним связано.
В качестве примера я рассказал дону Хуану одну историю о старом американце, очень образованном и богатом юристе, консерваторе по убеждениям. Этот человек всю жизнь свято верил, что борется за правое дело. В тридцатые годы он оказался полностью втянутым в политическое противостояние. Будучи убежденным в своей правоте, этот человек яростно ринулся в самую гущу борьбы с тем, что он считал политическим злом. Однако время перемен уже наступило, и волна новых политических и экономических реалий опрокинула его.
Десять лет он боролся как на политической арене, так и в личной жизни, но вторая мировая война добила его окончательно и в политическом, и в идеологическом отношении. С чувством горечи он ушёл от дел и забрался в глушь, добровольно обрекая себя на ссылку.
Когда я познакомился с ним, ему было уже восемьдесят четыре, он вернулся в родной город, чтобы дожить оставшиеся годы в доме престарелых. Мне было непонятно, что он жил так долго, учитывая испытываемые на протяжении десятилетий горечь и жалость к себе. Я ему чем-то понравился, и мы часто и подолгу беседовали.
Заканчивая разговор, который состоялся у нас перед моим отъездом в Мексику, он сказал: — У меня было достаточно времени, чтобы оглянуться назад и разобраться в происходившем. Главные события моей жизни уже давно стали историей, причём далеко не лучшими её эпизодами. И возможно, что я потратил годы своей жизни в погоне за тем, чего просто не существовало. В последнее время я чувствую, что верил в какой-то фарс. Ради этого не стоило жить. Теперь-то я это знаю. Но потерянных сорока лет уже не вернуть…
Я сказал дону Хуану, что причиной моего внутреннего конфликта были его слова о контролируемой глупости.
— Если нет ничего, что имело бы значение, — рассуждал я, — то тогда, став человеком знания, неизбежно придешь к такой же опустошенности, как этот старик, и окажешься не в лучшем положении.
— Это не так, — возразил дон Хуан. — Твой знакомый одинок, потому что так и умрёт, не умея видеть. В своей жизни он просто состарился, и сейчас у него больше оснований для жалости к себе, чем когда бы то ни было. Он чувствует, что потеряно сорок лет, потому что он жаждал побед, но потерпел поражение. Он так никогда и не узнает, что быть победителем и быть побеждённым — одно и то же.
Теперь ты боишься меня, потому что я сказал тебе, что ты равнозначен всему остальному. Ты впадаешь в детство. Наша судьба как людей — учиться, и идти к знанию следует так, как идут на войну. Я говорил тебе об этом много раз. К знанию или на войну идут со страхом, с уважением, с осознанием того, куда идут, и с абсолютной уверенностью в себе.
Дон Хуан встал и вытянул перед собой руки, как бы ощупывая что-то в воздухе.
— Всё заполнено до краёв, — повторил он, — и всё равнозначно. Я не похож на твоего знакомого, который просто состарился. И, утверждая, что ничто не имеет значения, я говорю совсем не о том, что имеет в виду он.
Для него его борьба не стоила усилий, потому что он потерпел поражение. Для меня нет ни побед, ни поражений, ни пустоты. Всё заполнено до краёв и всё равно, и моя борьба стоила моих усилий.
Чтобы стать человеком знания, нужно быть воином, а не ноющим ребёнком. Бороться не сдаваясь, не жалуясь, не отступая, бороться до тех пор, пока не увидишь. И всё это лишь для того, чтобы понять, что в мире нет ничего, что имело бы значение.
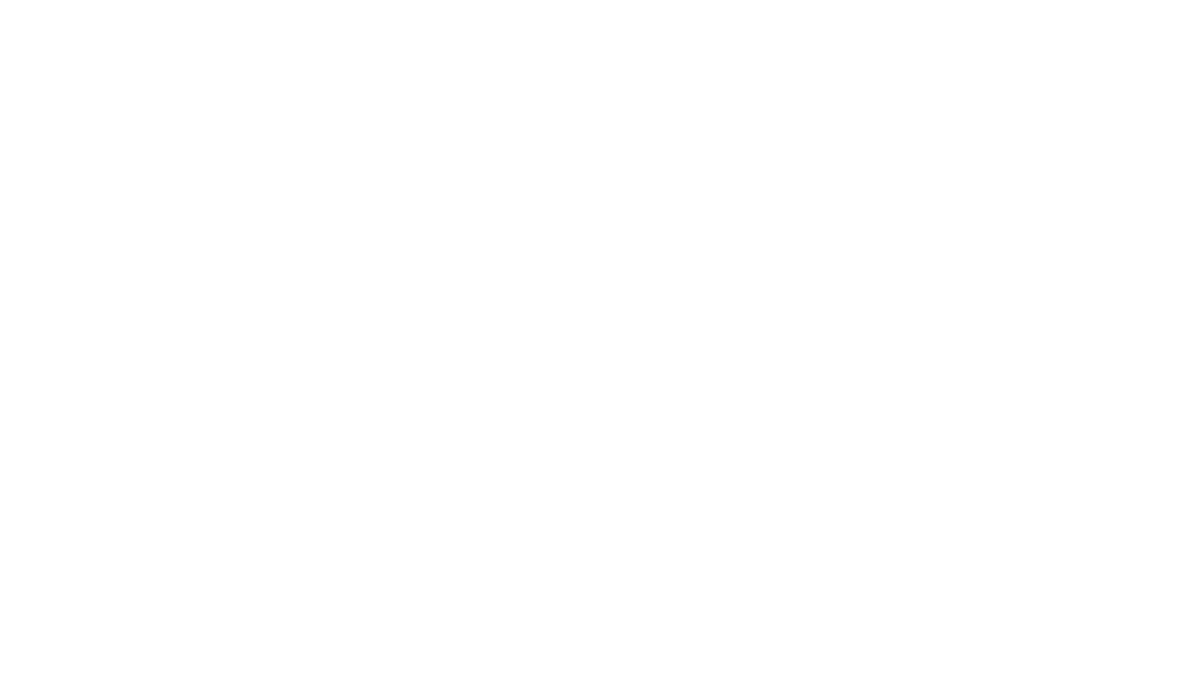
Дон Хуан перестал есть и расхохотался.
— Ты слишком озабочен тем, чтобы любить людей, и тем, чтобы тебя любили. Человек знания любит, и всё. Он любит всех, кто ему нравится, и всё, что ему по душе, но он использует свою контролируемую глупость, чтобы не заботиться об этом. Что полностью противоположно тому, чем сейчас занимаешься ты. Любить людей или быть любимым ими — это ещё далеко не все, что доступно человеку.
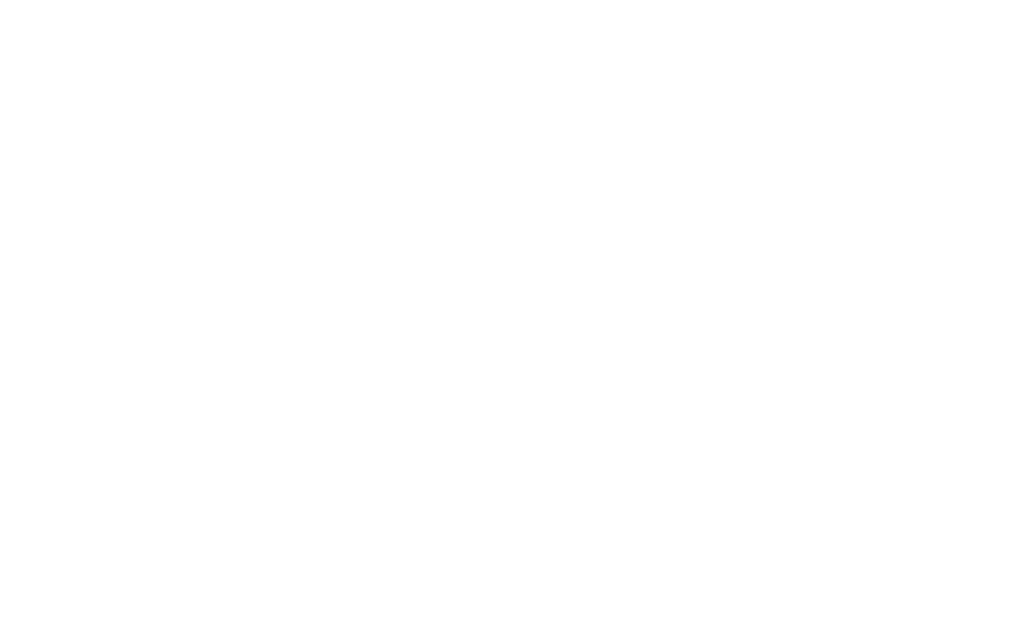
— Как человек знания применяет контролируемую глупость, если умирает тот, кого он любит?
Вопрос застал дона Хуана врасплох. Он удивленно взглянул на меня.
— Возьмём Лусио, — развил я свою мысль. — Если он будет умирать, останутся ли твои действия контролируемой глупостью?
— Давай лучше возьмём моего сына Эулалио. Это — более подходящий пример, — спокойно ответил дон Хуан. — На него свалился обломок скалы, когда мы работали на строительстве Панамериканской магистрали. То, что я делал, когда он умирал, было контролируемой глупостью.
Подойдя к месту обвала, я понял, что он уже практически мертв. Но он был очень силен, поэтому тело еще продолжало двигаться и биться в конвульсиях. Я остановился перед ним и сказал парням из дорожной бригады, чтобы они его не трогали. Они послушались и стояли вокруг, глядя на изуродованное тело.
Я стоял рядом, но не смотрел, а сдвинул восприятие в положение видения. Я видел, как распадается его жизнь, расползаясь во все стороны подобно туману из мерцающих кристаллов. Именно так она обычно разрушается и испаряется, смешиваясь со смертью. Вот что я сделал, когда умирал мой сын. Это — единственное, что вообще можно сделать в подобном случае.
Если бы я смотрел на то, как становится неподвижным его тело, то меня бы изнутри раздирал горестный крик, поскольку я бы чувствовал, что никогда больше не буду смотреть, как он, красивый и сильный, ступает по этой земле.
Но я выбрал видение. Я видел его смерть, и в этом не было печали, не было вообще никакого чувства. Его смерть была равнозначна всему остальному.
Дон Хуан замолчал: он казался печальным. Вдруг он улыбнулся и потрепал меня по затылку.
— Другими словами, когда умирает тот, кого я люблю, моя контролируемая глупость заключается в смещении восприятия, — сказал он.
Я вспомнил тех, кого любил сам, и сердце защемило от приступа жалости к себе.
— Счастливый ты, дон Хуан. Умеешь сдвигать восприятие. А я могу только смотреть…
Мои слова его рассмешили.
— Счастливый… Осёл! — произнёс он. — Это — тяжкий труд.
Мы засмеялись.
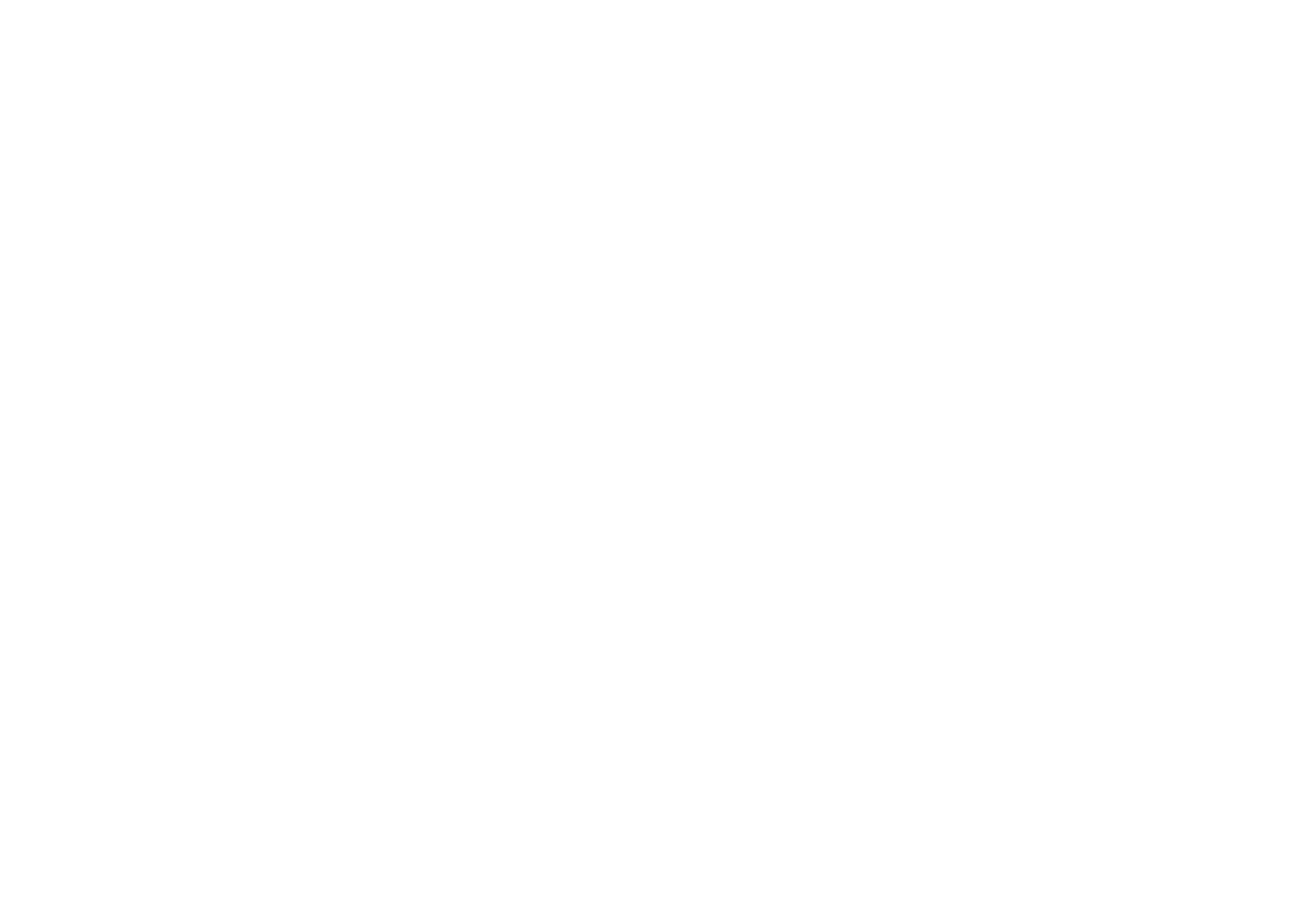
— Дон Хуан, если я правильно понимаю, в жизни человека знания контролируемой глупостью не являются только действия в отношении союзников и Мескалито? Верно?
— Верно, — кивнул он. — Союзники и Мескалито — существа совершенно иного плана. Моя контролируемая глупость распространяется только на меня и на мои действия по отношению к людям.
— Да, но логически можно предположить, что человек знания мог бы рассматривать как контролируемую глупость также и свои действия в отношении союзников и Мескалито, не так ли?
Какое-то время он молча смотрел на меня.
— Снова ты начинаешь думать. Человек знания не думает, поэтому возможность такого логического предположения для него исключена. Возьмем, к примеру, меня. Я говорю, что практикую контролируемую глупость по отношению к людям, и говорю так потому, что способен их видеть.
Однако я не могу увидеть, что скрывается за союзником, поэтому он для меня непостижим. Как, скажи на милость, могу я контролировать свою глупость, сталкиваясь с тем, чего не понимаю? По отношению к союзнику и Мескалито я всего лишь человек, который знает как видеть, человек, который поражен тем, что он видит; человек, которому никогда не будет дано постичь все, что его окружает.
Теперь возьмем, к примеру, тебя. Мне безразлично, станешь ты человеком знания или нет, а Мескалито это почему-то не безразлично. Ясно, что для него это имеет какое-то значение, иначе он не стал бы столько раз и так явно демонстрировать свою заинтересованность в тебе. Он позволил мне это заметить, и я иду ему навстречу хотя причины, заставляющие Мескалито действовать таким образом, для меня непостижимы.
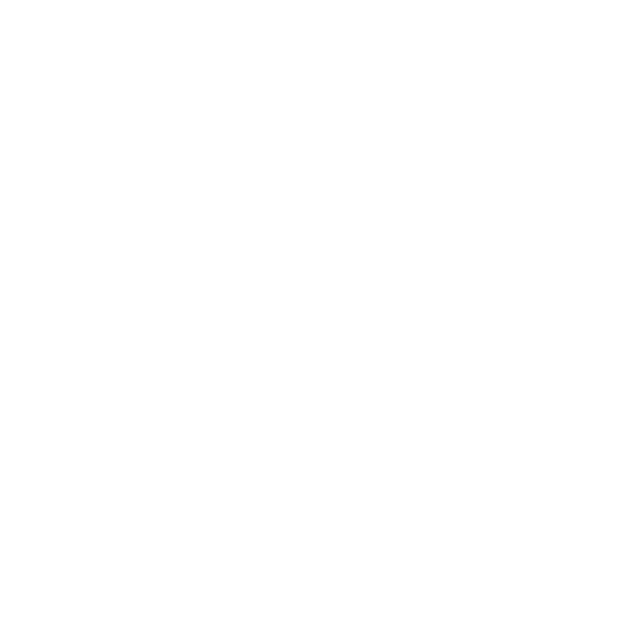
Я было запротестовал, но дон Хуан сказал, что хотел только напомнить мне о том, что
Но внимательность и осознание каждого шага
могут предотвратить такой исход
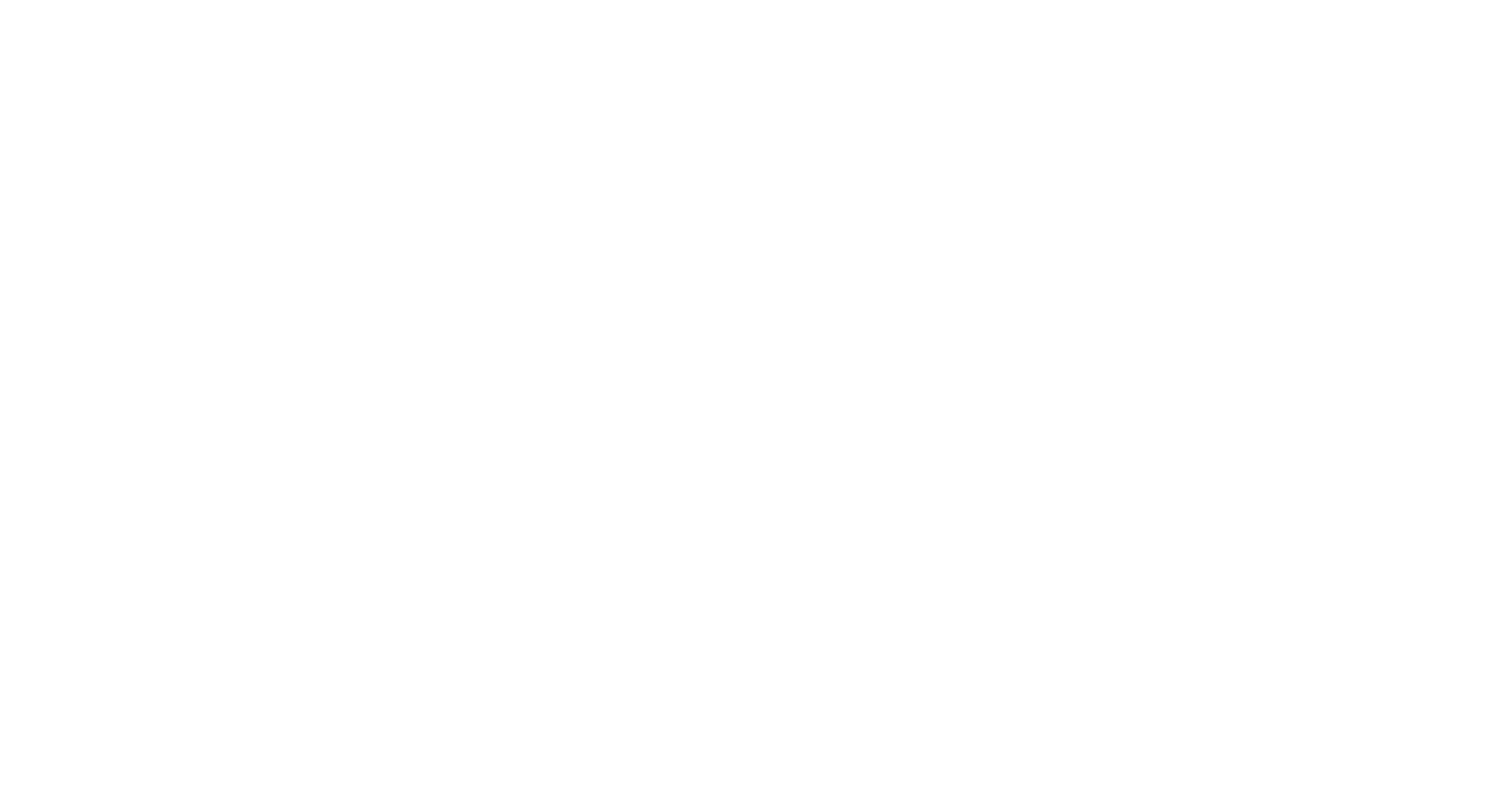
Я сразу же его узнал — мы, оказывается, уже встречались, правда, мимоходом, в тот день, когда я привёз дону Хуану свою книгу. Тогда я не обратил на него особого внимания.
Мне казалось, что он примерно одного возраста с доном Хуаном. Однако сейчас, когда он стоял в дверях, я заметил, что он значительно моложе — где-то чуть больше шестидесяти. Он был ниже дона Хуана ростом, тоньше, очень жилистый и темнокожий. Довольно длинные и очень густые чёрные с проседью волосы закрывали уши и лоб. Выражение округлого лица было жёстким. Длинный нос и маленькие тёмные глаза придавали ему сходство с какой-то хищной птицей.
Сначала он обратился к дону Хуану. Тот утвердительно кивнул. Они перекинулись несколькими фразами, но говорили не по-испански, так что я ничего не понял. Потом дон Хенаро обратился ко мне. — Добро пожаловать в мою скромную маленькую лачугу, — извиняющимся тоном произнёс он по-испански.
Это была стандартная вежливая формула, которую мне неоднократно доводилось слышать в сельских районах Мексики. Но произнося её, он без видимой причины засмеялся так радостно, что я понял — это его контролируемая глупость. Ему было в высшей степени безразлично, что дом его — лачуга. Мне дон Хенаро очень понравился.
Вечерело. Дон Хуан сидел на плоском камне, лицом на запад — в сторону гор, дон Хенаро — рядом с ним на соломенной циновке, лицом на север. В первый же день после нашего приезда дон Хуан объяснил мне, что это — «их положения», и что мне следует садиться на землю в любом месте напротив них. Ещё он добавил, что когда мы втроём сидим в «своих положениях», я должен располагаться лицом на юго-восток, и на них не смотреть, а только изредка поглядывать.
Дон Хенаро с недоумением уставился на меня: его, видимо, сбивало с толку то, что я непрерывно пишу. Улыбнувшись мне, он тряхнул головой и что-то сказал дону Хуану. Дон Хуан пожал плечами. Дону Хенаро непрерывно пишущий ученик мага, должно быть, казался явлением весьма странным, по крайней мере, смотреть на это без смеха он не мог.
Дон Хуан уже давно привык к тому, что я постоянно что-то записываю, и не обращал на это никакого внимания, продолжая говорить как ни в чем не бывало. Однако реакция дона Хенаро несколько нарушала общий настрой беседы, поэтому я отложил блокнот. Дон Хуан ещё раз подчеркнул, что
Дон Хуан извинился передо мной, сказав, что его друг бывает подвержен приступам смеха. Я взглянул на дона Хенаро, ожидая увидеть его все ещё катающимся по земле, но взору моему предстало нечто такое, что я невольно подскочил от изумления. Это было немыслимо и даже противоестественно — он стоял на голове без помощи рук. Ноги его при этом были спокойно сложены крест-накрест, как он их складывал, сидя на своей циновке.
Но когда до меня, наконец, дошло, что с точки зрения законов механики человеческого тела дон Хенаро проделал нечто попросту невозможное, тот уже снова как ни в чем не бывало сидел в исходном положении. Дон Хуан, похоже, был в курсе происходящего, потому что
приветствовал поразительный трюк своего друга взрывом раскатистого хохота.
Дон Хенаро вроде бы заметил, что я потрясён. Он похлопал в ладоши, приглашая меня следить за тем, что делает, и снова начал кататься по земле. Теперь я заметил, что в действительности он не катался по земле, а раскачивался из стороны в сторону, постепенно увеличивая амплитуду этих маятникообразных движений. В конце концов крутящий момент становился достаточным для того, чтобы тело, перевернувшись, оказывалось в том противоестественном положении, которое я видел, и несколько мгновений дон Хенаро «сидел на собственной голове».
Когда они успокоились и перестали хохотать, дон Хуан продолжил. Я почувствовал, что нужно записывать, и снова взялся за блокнот. Дон Хенаро уставился на меня, улыбаясь во весь рот. Потом он склонил голову набок и раздул ноздри. Мимикой он владел в совершенстве — ноздри увеличились в диаметре чуть ли не вдвое.
Но комичнее всего были не жесты дона Хенаро, а его собственная реакция на них. Раздув ноздри, он наклонился и снова встал в свою фантастическую стойку на голове.
Дон Хуан хохотал до слез. Я почувствовал раздражение и нервно засмеялся.
— Хенаро не любит, когда пишут, — объяснил дон Хуан.
Я отложил блокнот, но дон Хенаро заверил меня, что все нормально и он нисколько не возражает. Я снова взял блокнот и начал писать. Дон Хенаро повторил представление, и они опять хохотали до упаду.
Всё ещё смеясь, дон Хуан сказал, что его друг изображает меня — когда я пишу, то раздуваю ноздри. А по мнению дона Хенаро,
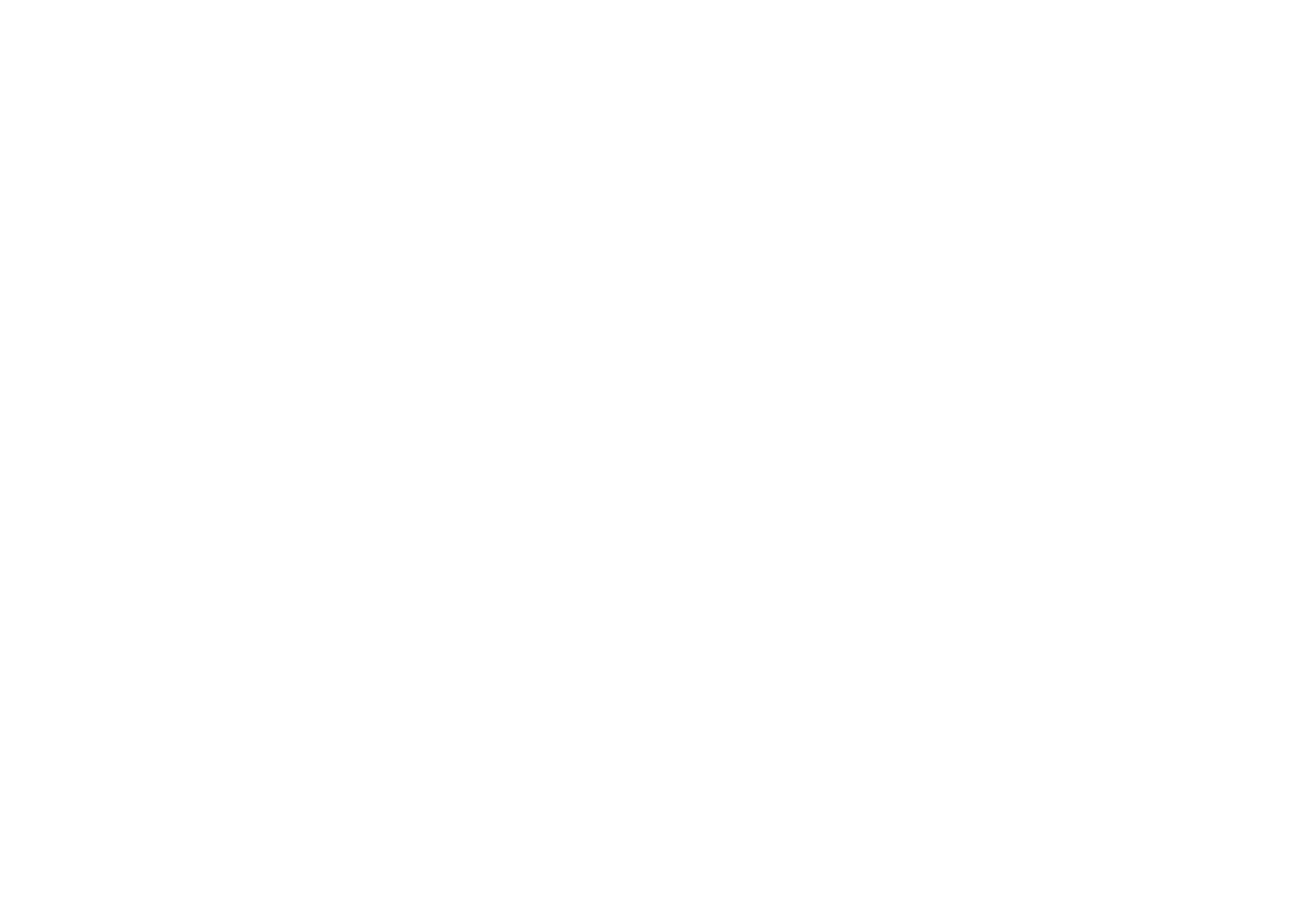
— Кроме него, никто не умеет так «сидеть на голове», а ты единственный, кто думает, что можно стать магом, записывая в блокнот поучения.
Они снова засмеялись, и дон Хенаро опять повторил свой невероятный трюк. Этот человек мне определённо нравился. В его движениях были непревзойдённая грация и точность.
— Куда дует ветер? — многозначительно спросил дон Хенаро.
Дон Хуан кивнул в сторону запада. — Ага… Схожу-ка я туда, куда ветер дует, — очень серьёзно произнёс дон Хенаро. Повернувшись, он погрозил мне пальцем:
— Не пугайся, если вдруг услышишь странные звуки. Запомни, Хенаро срёт — земля дрожит!
Одним прыжком он скрылся в кустах, и спустя несколько мгновений я услышал странный звук — глубокий неземной грохот. Не зная, что и думать, я взглянул на дона Хуана. Но тот катался по земле, корчась от хохота.
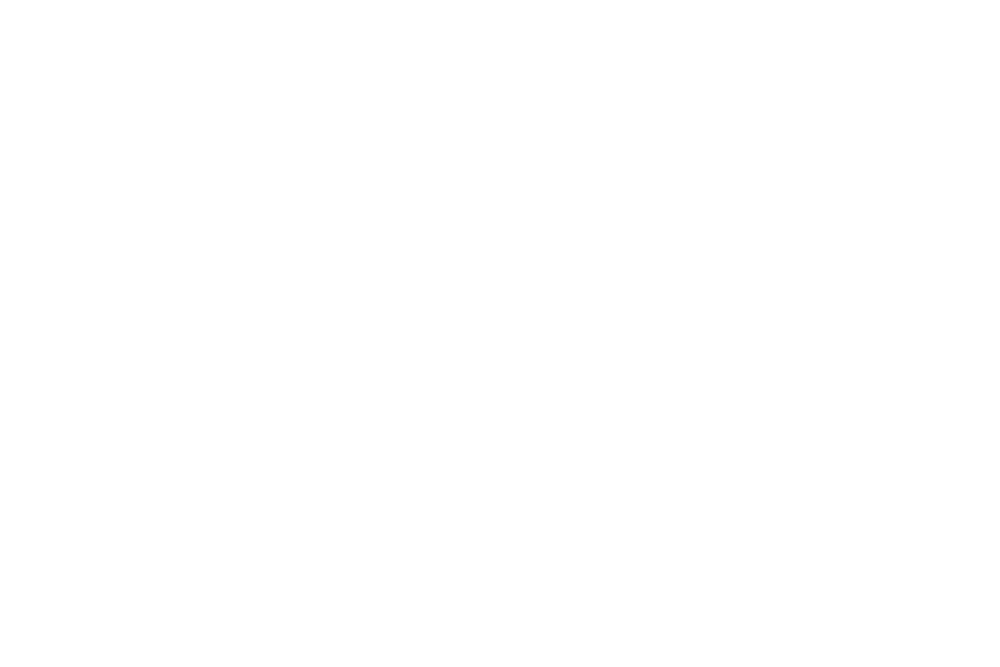
— Почему ты ушёл, дон Хуан?
— По той же причине, что и ты. Мне это не понравилось.
— А почему вернулся?
— Опять-таки, потому же, почему и ты.
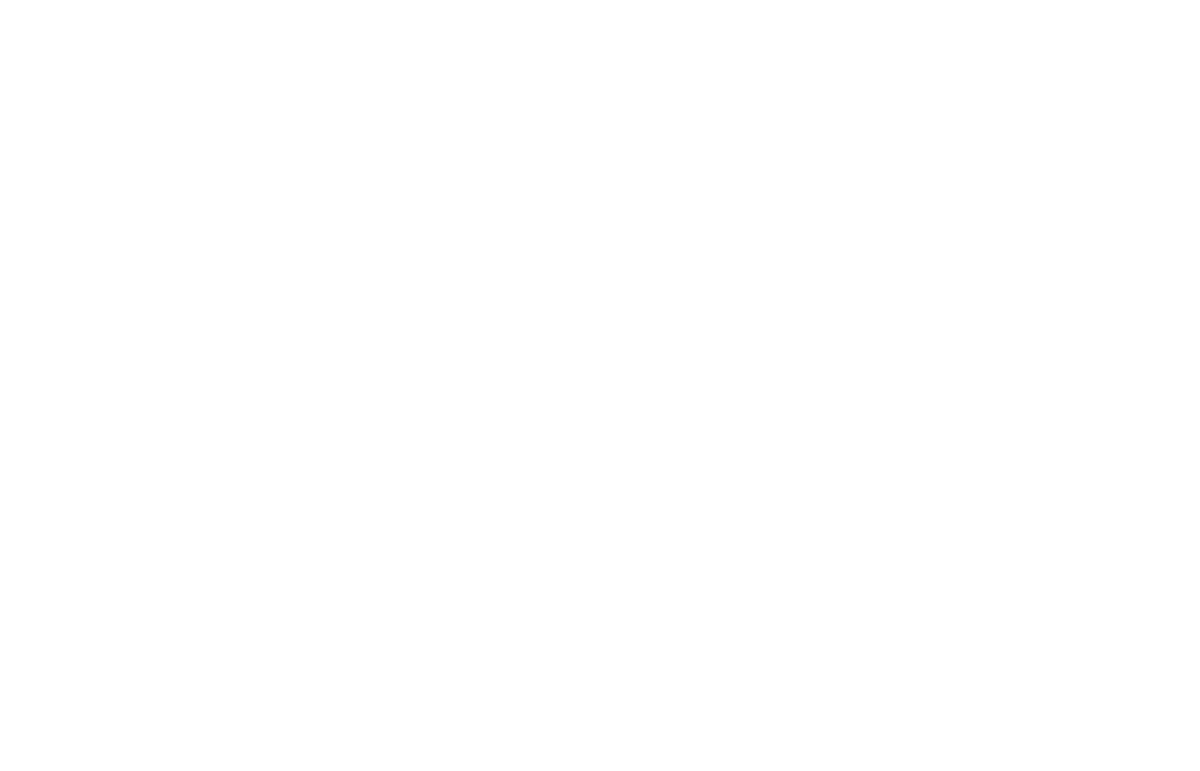
Пообедав, мы сели возле очага, и я сказал, что он сбивает меня с толку: ведь я готов учиться, а он вроде и видеть меня не желает. Мне пришлось наступать себе на горло, чтобы преодолеть отвращение к его курительной смеси, и я чувствовал, что, по его словам, времени слишком мало.
Дон Хуан спокойно выслушал мои жалобы.
— Ты ещё слишком слаб, — сказал он, — Когда нужно выждать, ты торопишься, а когда нужно спешить — чего-то ждёшь. Ты слишком много думаешь. Теперь ты думаешь, что нельзя терять время. Недавно ты думал, что больше никогда не будешь курить. Твоя жизнь — сплошное
разгильдяйство, ты недостаточно собран, чтобы вновь встретиться с дымком. Я отвечаю за тебя и не хочу, чтобы ты умер, как проклятый дурак.
Я смутился.
— Что делать, дон Хуан? Я испытываю сильное нетерпение.
— Живи как воин. Я уже говорил тебе, что
со стражем.
— Как я потерпел неудачу, дон Хуан?
— Ты думаешь обо всем. Ты думал о страже, и поэтому не смог победить его. В первую очередь ты должен жить как воин. Полагаю, ты понял это очень хорошо.
Я хотел вставить что-нибудь в свою защиту, но он сделал мне знак молчать.
— Твоя жизнь довольно трудна, — продолжал он. — В сущности, твоя жизнь труднее, чем жизнь Хенаро, Паблито или Нестора, и все же они видят, а ты нет. Твоя жизнь труднее, чем у Элихио, а он, вероятно, увидит раньше тебя. Это меня огорчает. Даже Хенаро не может смириться с этим.
Ты честно выполнил все то, что я говорил тебе делать. И всё, чему мой бенефактор научил меня на первой ступени обучения, я передал тебе. Правило верное, шаги не могут быть изменены. Ты сделал все, что нужно было сделать, и всё же ты не видишь. Но тем, кто видит, подобно Хенаро, кажется всё же, что ты видишь. Я тоже иногда полагаюсь на это, и я обманываюсь. Ты суетишься и ведёшь себя как идиот, который не видит, но именно так все и обстоит в твоём случае.
Слова дона Хуана причинили мне глубокую боль. Не знаю почему, но я был близок к слезам. Я начал рассказывать ему о своём детстве, и волна жалости к самому себе охватила меня. Дон Хуан пристально взглянул на меня и отвёл глаза. В них был пронзительный блеск. Я почувствовал, что он захватил меня своими глазами. Было такое чувство, что две руки ласково сжали меня, и я ощутил непонятное волнение, нетерпеливое желание, приятное отчаяние в области солнечного сплетения. Я стал сознавать свою брюшную полость, ощущая там жар. Я не мог больше говорить связно и забормотал, а затем умолк.
— Возможно, что это — обещание, — сказал дон Хуан после долгой паузы.
— Извини, я не понял.
— Обещание, которое ты дал давным-давно.
— Какое обещание?
— Постарайся сказать мне сам. Ты помнишь это?
— Нет.
— Однажды ты обещал что-то очень важное. Не исключено, что ты обещал охранять себя от видения.
— Не понимаю, о чём ты говоришь.
— Я говорю о данном тобой обещании! Ты должен помнить это.
— Если ты знаешь, что это за обещание, то скажи мне, дон Хуан!
— Нет. Не будет никакой пользы сказать тебе это.
— Было ли это обещанием, которое я дал себе? Я подумал, что он намекает на мой отказ от ученичества.
— Нет. Это было давно.
Я решил, что он меня разыгрывает, и засмеялся при мысли, что тоже могу подшутить над доном Хуаном. Я не сомневался, что он знает о предполагаемом обещании не больше меня самого и пытается импровизировать. Мысль потакать ему в этом доставляла удовольствие.
— Я что-то обещал своему дедушке?
— Нет, — ответил он, и глаза его заблестели. — И даже не бабушке.
Смешная интонация, которую он придал слову «бабушка», заставила меня рассмеяться. Я подумал, что дон Хуан ставит мне ловушку, но хотел доиграть до конца. Я начал перечислять своих знакомых, кому мог бы пообещать что-то важное. О каждом он сказал «нет», а затем перевёл разговор на моё детство.
— Почему твоё детство было печальным? — спросил он с серьёзным выражением. Я сказал ему, что моё детство было не то чтобы печальным, а, пожалуй, немного трудным.
— Так чувствует каждый, — сказал он, глядя на меня. — В детстве я тоже был несчастным и все время боялся. Трудно быть индейским ребёнком, очень трудно. Но память о том времени не имеет значения для меня, хотя оно и было тяжёлым. Я перестал думать о трудностях жизни ещё до того, как научился видеть.
— Но я тоже не думаю о своём детстве, — сказал я.
— Тогда почему воспоминания о нём вызывают у тебя печаль? Почему ты чуть не плачешь?
— Я не знаю. Наверное потому, что когда я вспоминаю себя ребёнком, то испытываю жалость к самому себе и ко всем своим близким. Я чувствую беспомощность и грусть.
Он пристально посмотрел на меня, и опять в области живота я отметил необычное ощущение двух рук, сжимающих его. Я отвёл глаза, а потом снова взглянул на него. Он смотрел мимо меня куда-то вдаль затуманившимся взглядом.
— Это — обещание, данное тобой в детстве, — сказал он после паузы.
— Но что я пообещал?
Он не ответил. Его глаза были закрыты. Я невольно улыбнулся, зная, что он нащупывает путь во тьме, но первоначальное желание разыграть его немного поостыло.
— В детстве я был очень худым, — сказал он, — и всегда боялся.
— Я тоже, — произнёс я.
— Больше всего мне запомнился ужас и печаль, охватившие меня, когда мексиканские солдаты убили мою мать, — сказал он мягко, словно воспоминание причиняло боль. — Она была бедной и застенчивой индеанкой. Наверное, даже лучше, что её жизнь оборвалась тогда. Я был совсем маленьким и хотел, чтобы меня убили вместе с ней. Но солдаты подняли меня и избили. Когда я цеплялся за тело матери, меня ударили по рукам плетью и перебили пальцы. Я не чувствовал боли, но цепляться больше не мог, и они утащили меня.
Он замолчал. Глаза его все ещё были закрыты, губы едва заметно дрожали. Глубокая печаль начала охватывать меня. Перед глазами мелькали образы моего детства. — Сколько лет тебе было тогда, дон Хуан? — спросил я, чтобы как-то отвлечься.
— Лет семь. Это происходило во время великой войны племени яки. Мексиканцы напали неожиданно, мать как раз готовила какую-то еду. Она была слабой и беззащитной женщиной, и её убили просто так, без причины. То, что она умерла именно так, в общем-то не имеет особого значения. Но для меня — имеет. Я не могу объяснить почему, но имеет. Я думал, что отца тоже убили, но оказалось, что он ранен. Нас загрузили в товарные вагоны, как скот, и заперли. Несколько дней мы сидели в темноте. Время от времени солдаты бросали нам немного еды. В этом вагоне отец умер от ран. От боли и лихорадки у него начался бред, но и в бреду он твердил, что я должен выжить. Так он и умер, требуя, чтобы я не сдавался и выжил. Люди позаботились обо мне — накормили, старая знахарка вправила пальцы. Ну, и, как видишь, я выжил. Жизнь моя не была ни хорошей, ни плохой, она была трудной. Жизнь — вообще штука тяжёлая, а для ребёнка зачастую — ужасна сама по себе.
Мы очень долго молчали. Наверное, около часа. Я никак не мог разобраться в себе, чувствуя, что удручён, но не понимая, чем и почему. Кроме того, я испытывал угрызения совести — совсем недавно я собирался подшутить над доном Хуаном, но он повернул ситуацию в свою пользу. Всё было так просто и выразительно. У меня появилось странное ощущение.
Страдания детей всегда задевали меня за живое, и сочувствие к дону Хуану в мгновение ока вызвало во мне отвращение к самому себе. Я сидел и записывал рассказ дона Хуана, как будто это был просто, так сказать, «клинический случай». Но на сердце кошки скребли, и вообще — внутри у меня творилось такое, что я готов был уже разорвать к черту блокнот. Тут дон Хуан постучал пальцем по моей ноге. Он сказал, что видит свечение насилия вокруг меня, и спросил, уж не собираюсь ли я его поколотить. Он засмеялся, и это несколько разрядило обстановку. Он сказал, что у меня есть склонность к вспышкам насилия, но, поскольку на деле я нерешителен, насилие это чаще всего оборачивается против меня самого.
— Ты прав, дон Хуан.
— Ещё бы, — сказал он со смехом.
Он попросил меня рассказать ему о своём детстве. Я заговорил о годах страха и одиночества и постепенно перешёл к тому, что считал своей борьбой за выживание и укрепление духа. Дон Хуан засмеялся, когда я употребил метафору «укрепление духа».
Я говорил долго. Он очень серьёзно слушал. Потом в какой-то момент снова «сжал» меня глазами, и я замолчал. После короткой паузы он сказал, что никто по-настоящему не унижал меня, и это было причиной моей нерешительности.
— Ты никогда не испытывал поражения, — сказал он.
Он повторил это четыре раза, и в итоге я не мог не спросить, что он имеет в виду. Он объяснил, что «быть побеждённым» — это состояние, образ жизни, от которого побеждённый не может уйти. Люди делятся на две категории — победители и побеждённые: в зависимости от этого они
становятся гонителями или гонимыми. Человек попеременно находится то в одном, то в другом из этих состояний до тех пор, пока не научится видеть.
Видение рассеивает иллюзии побед, поражений, страданий. Он добавил, что мне следовало бы научиться видеть тогда, когда я буду победителем, чтобы у меня не осталось даже тени воспоминаний о чувстве унижения.
Я возразил, сказав, что никогда и ни в чем не был победителем и что жизнь моя — одно сплошное поражение.
— Если твоя жизнь является таким поражением, наступи на мою шляпу, — вызвал он меня в шутку.
Я чистосердечно доказывал своё. Дон Хуан стал серьёзным, его глаза сузились до тонких щёлок. Он сказал, что я считаю свою жизнь поражением не потому, что она таковым является, но совсем по другим причинам. Вдруг он быстрым и совершенно неожиданным движением сжал ладонями мои виски и пристально посмотрел мне в глаза. От испуга я непроизвольно сделал глубокий вдох ртом. Он отпустил мою голову, и она откинулась к стене. Все это было проделано так быстро, что когда он расслабился и сел, прислонившись спиной к стене, я был ещё на середине глубокого вдоха. Я почувствовал головокружение, нервозность.
— Я вижу маленького плачущего мальчика, — сказал дон Хуан после паузы.
Он повторил это несколько раз, но я не обращал на его слова особого внимания, поскольку думал, что речь идёт обо мне в детстве.
— Эй, — сказал он, требуя моего полного внимания. — Я вижу маленького плачущего мальчика.
— Это — я?
— Нет.
— Это — видение из моей жизни или твои воспоминания?
Дон Хуан не ответил.
— Я вижу маленького мальчика, — снова сказал он. — Он плачет и плачет.
— Я знаю этого мальчика? — спросил я.
— Да.
— Это — мой сынишка?
— Нет.
— Он плачет сейчас?
— Он плачет сейчас, — сказал он убеждённо.
Я подумал, что дон Хуан видел ребёнка, которого я знаю и который где-то плачет именно в это время. Я начал перечислять имена знакомых детей, но дон Хуан сказал, что все они не имеют к моему обещанию никакого отношения, а этот плачущий мальчик — имеет, причём самое непосредственное.
Утверждение дона Хуана показалось мне нелепым. Он сказал, что в детстве я кому-то что-то обещал, и в то же время — что ребёнок, который плачет в данный момент, имеет к этому непосредственное отношение. Я уверял его, что в этом нет смысла. Он спокойно повторил, что видит маленького мальчика, который плачет сейчас, и что мальчику больно.
Какое-то время я вполне серьёзно старался придать его утверждениям хоть какой-то смысл.
— Хватит, — сказал я наконец. — Я не помню, чтобы давал кому-то важное обещание, а тем более — ребёнку. Он опять прищурил глаза и сказал, что это — ребёнок из моего детства, который плачет сейчас.
— Он — ребёнок из моего детства, и плачет сейчас?
— Да.
— Ты понимаешь, о чем ты говоришь, дон Хуан?
— Понимаю.
— Это не имеет смысла. Как сейчас он может быть ребёнком, если был им во время моего детства?
— Это ребёнок. Он плачет сейчас, — упрямо повторил он.
— Объясни мне это, дон Хуан.
— Нет, ты должен объяснить мне это.
Хоть убей, но я не мог понять, о чем он говорил.
— Он плачет, он кричит, — продолжал говорить дон Хуан гипнотизирующим тоном. — Он держит тебя. Он крепко сжимает. Он обнимает. Он смотрит на тебя. Ты чувствуешь его глаза? Он становится на колени и обнимает тебя. Он моложе тебя. Он подбегает к тебе. Но его рука сломана. Ты чувствуешь его руку? У этого маленького мальчика нос выглядит подобно пуговке. Да. Это нос-пуговица!
В ушах появился гул, и я потерял чувство реальности происходящего. Слова дона Хуана «нос пуговицей» бросили меня в сцену из моего детства. Я знал мальчика с носом-пуговицей! Дон Хуан незаметно проник в одно из наиболее темных мест моей жизни. Я вспомнил обещание, о котором он говорил. В тот момент моё состояние было смесью экзальтации, отчаяния и благоговения перед доном Хуаном и его великолепным манёвром. Откуда, чёрт возьми, он знает о существовании мальчика с носом-пуговицей из моего детства?
Воспоминание до того взволновало меня, что я перенёсся в далёкое прошлое, когда мне было восемь лет. Моя мать умерла два года назад, и наиболее мучительные годы своей жизни я провёл среди её сестёр, которые по очереди брали меня в свои семьи, меняясь раз в два месяца. У каждой из тёток была большая семья, и как бы предупредительно и нежно они ко мне ни относились, конкуренция со стороны двадцати двух кузенов и кузин давала себя знать. Их бессердечие было иногда действительно странным. Я почувствовал, что меня окружают враги, и потянулись годы отчаянной и неприглядной войны. В конце концов мне удалось подчинить себе всех своих многочисленных двоюродных братьев и сестёр. Мне до сих пор непонятно, за счёт чего я вышел в этой войне победителем. У меня больше не было достойных соперников. Однако я не знал этого, и не знал, как прекратить свою войну, которая вскоре перенеслась и на школьную почву.
Классы сельской школы, которую я посещал, были смешанными, и первый класс отделялся от третьего только расстоянием между партами. Там я и познакомился с курносым малышом, которого из-за носа дразнили «Пуговкой». Он был первоклассником. Время от времени я дразнил и третировал его, правда, не злостно, а просто так, от нечего делать. Но, несмотря ни на что, он, казалось, меня любил и всюду за мной таскался хвостиком. Он даже знал, что на моей совести — несколько проделок, расследование которых завело в тупик самого директора школы, однако никому не говорил об этом ни слова. Но я все равно донимал его.
Однажды я нарочно опрокинул тяжёлую классную доску, и она упала на Пуговку. Парта, за которой он сидел, отчасти задержала её, но все равно удар получился сильный и сломал ему ключицу. Он упал. Я помог ему встать и, когда он уцепился за меня и обнял, увидел в его глазах испуг и боль. Это было слишком, я не мог вынести вида малыша с изуродованной рукой, который, плача, обнимал меня.
Годами я сражался с родственниками и победил, покорив всех своих противников, но в миг, когда я увидел страдания этого маленького курносого мальчика, все мои победы были уничтожены. Не сходя с места, я проиграл все битвы сразу. Я думал, что ему отрежут руку, и пообещал, что если малыша вылечат, я никогда в жизни не буду победителем. Ради него я отказался от всех своих побед. По крайней мере, так я понимал это тогда.
Дон Хуан вскрыл гнойную рану моей жизни, затянувшуюся многими слоями последовавших событий. Я был ошеломлён, голова кружилась. Передо мной разверзлась пропасть бесконечной печали, и я с головой в неё погрузился. Мои поступки тяжким грузом легли на душу.
Воспоминание о курносом малыше по имени Хоакин заставило меня страдать настолько живо, что я начал плакать. У этого мальчика никогда ничего не было, его родители не могли даже обратиться к врачу, так как у них не хватало денег на лечение, и рука Хоакина так и срослась неправильно. Я заплатил за это всего лишь своими детскими победами. Мне было невыносимо стыдно.
— Успокойся, чудак, — сказал дон Хуан. — Ты отдал достаточно. Теперь ты можешь изменить своё обещание.
— Изменить? Но как? Произнести соответствующие слова?
— Нет, такого рода обещание словами не изменишь. Но очень скоро ты, возможно, поймёшь, как это сделать. Тогда, наверное, ты даже начнёшь видеть.
— Можешь ты мне хотя бы подсказать, дон Хуан? Чуть-чуть?
— Ты должен терпеливо ждать, зная о своём ожидании и зная, чего ты ждёшь. Это — путь воина. Если дело в том, чтобы выполнить обещание, то ты должен делать это сознательно. Рано или поздно ожидание закончится, и ты будешь свободен от обязательств. Теперь ты уже никак не сможешь изменить жизнь того мальчика. Только он сам может вычеркнуть из своей жизни то, что тогда произошло.
— Как?
— Научившись уничтожать желания. Пока он считает себя жертвой, его жизнь останется адом. Пока ты считаешь его жертвой, твоё обещание останется в силе. Желание — вот что заставляет нас страдать, но как только мы научимся уничтожать свои желания, любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар. Будь спокоен, ты сделал Хоакину царский подарок. Бедность и нужда — это только мысли; то же касается ненависти, голода, боли.
— Я не могу в это поверить, дон Хуан. Как голод и боль могут быть только мыслями?
— Для меня сейчас они являются только мыслями. Это все, что я знаю, это моё достижение. Запомни: понимание этого — единственное, что позволяет нам противостоять силам жизни. Без него мы — мусор, пыль на ветру.
— Я не сомневаюсь, дон Хуан, что ты это сделал. Но разве такое под силу обыкновенному человеку — мне, скажем, или маленькому Хоакину?
— Наша судьба как людей — противостоять силам жизни. Я много раз говорил тебе: только воин может выжить.
Я хотел было отстаивать своё мнение, но остановился, потому что понял, что таким образом пытаюсь защититься от разрушительной силы великолепной победы дона Хуана, которая затронула меня так глубоко и с такой силой. Как он знает? Я подумал, что мог рассказать ему историю о курносом мальчике во время одного из моих состояний необычной реальности. Но мне все равно казалось, что я никогда не говорил ему об этом. Впрочем, то, что я не помнил, предполагалось с самого начала.
— Как ты узнал о моём обещании, дон Хуан?
— Я видел его.
— Ты видел его, когда я принимал Мескалито или когда я курил твою смесь?
— Я видел его сейчас, сегодня.
— Ты видел всё событие?
— Снова ты за своё. Я же говорил тебе, что нет смысла обсуждать, на что похоже видение.
Я больше не настаивал. Эмоционально я был убеждён.
— Я также дал клятву однажды, — неожиданно сказал дон Хуан.
Звук его голоса заставил меня вздрогнуть.
— Я обещал отцу, что я буду жить, чтобы уничтожить его убийц. Я носил в себе это обещание долгие годы. Теперь обещание изменено. Я не интересуюсь больше уничтожением кого-либо. Я не ненавижу мексиканцев. У меня нет ненависти ни к кому. Я знаю, что бесчисленные пути каждого пересекаются в его жизни. Все равны. Угнетатель и угнетённый в конце встречаются, и единственное, что преобладает, — это то, что жизнь была слишком короткой для них обоих. Сегодня я чувствую печаль не потому, что мой отец или моя мать умерли так, как они умерли, а потому, что они были индейцами.
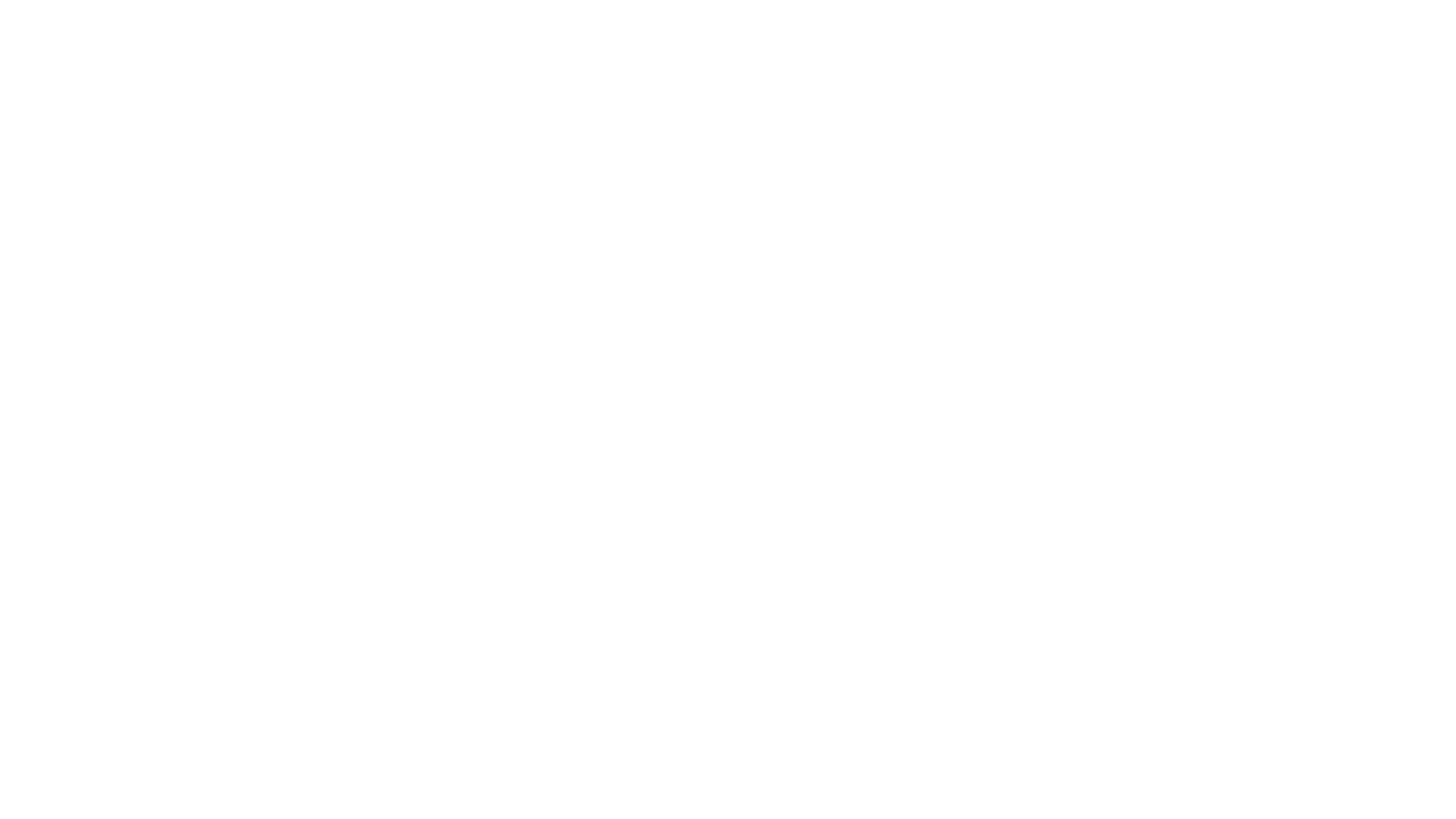
— Ты должен действовать, как воин, — сказал он.
— Как?
Он вроде начал сердиться и даже чмокнул губами. Я поспешно сказал, что не хотел его злить, и что если я сейчас не нужен, то готов уехать обратно в Лос-Анжелес. Дон Хуан мягко погладил меня по спине и сказал, что мне хорошо известно, что значит «быть воином».
— Что я должен делать, чтобы жить как воин? — спросил я.
Он снял шляпу и почесал виски. Он пристально посмотрел на меня и улыбнулся.
— Ты любишь всё, выраженное в словах, не так ли?
— Так работает моё сознание.
— Оно не должно так работать.
— Я не знаю, как измениться. Вот почему я прошу тебя рассказать мне, что именно я должен делать, чтобы жить как воин. А я попытаюсь к этому приспособиться.
Почему-то мое заявление показалось ему забавным, и он долго хохотал, хлопая меня по спине.
У меня было чувство, что он с минуту на минуту собирается отправить меня домой, поэтому я быстро уселся напротив него на свою циновку и стал задавать вопросы. Меня интересовало, почему мне следует выжидать.
Он объяснил, что если я попытаюсь видеть, не «залечив» предварительно «раны», полученные в битве со стражем, то могу опять столкнуться с этим монстром, даже если не буду искать встречи с ним. Дон Хуан заверил меня, что выжить в такой ситуации не способен никто.
— Ты должен полностью забыть стража, и только после этого пытаться видеть снова.
— Забыть стража?! Да разве такое можно забыть?
— Для того, чтобы забыть, воин использует волю и терпение. В действительности это всё, что у него есть. При помощи воли и терпения воин добивается всего, чего хочет.
— Но я же — не воин.
— Ты встал на путь магии. У тебя нет больше времени ни на отступление, ни на сожаления. Время есть лишь на то, чтобы жить, как подобает воину, вырабатывая терпение и волю. Нравится тебе это или нет.
— Как воин их вырабатывает?
Прежде, чем ответить, дон Хуан долго думал. В конце концов он произнёс:
— Мне кажется, об этом невозможно рассказать. Особенно о воле, потому что воля — это нечто очень специфическое. Проявления её таинственны. Нет никакой возможности объяснить, как её использовать, можно только увидеть результаты. Они ошеломляют. Наверное, прежде всего нужно осознать, что волю можно развить. Воин знает об этом и терпеливо ждёт. Ты не отдаёшь себе отчёта в том, что твоё ожидание — ожидание воли. И это твоя ошибка. Мой бенефактор говорил мне, что воин знает, чего он ждёт, и знает чего ждёт. Ты знаешь, что ждёшь. Но хотя ты и околачиваешься здесь годами, ты так до сих пор и не понял, чего именно ждёшь. Среднему, обычному человеку очень трудно, практически невозможно узнать, чего он ждёт. Для воина, однако, такой проблемы не существует. Он знает, что его ожидание — это ожидание воли.
— Ты можешь мне чётко сказать, что такое воля? Это что — устремление, вроде мечты Лусио заполучить мотоцикл?
— Нет, — мягко произнёс дон Хуан и усмехнулся. — Это — не воля. Лусио просто потакает своим желаниям и своей слабости. Воля — это другое. Воля — это нечто предельно чистое, мощное, что направляет наши действия.
— Нет, мужество — это другое. Мужественные люди зависимы. Они благородны, из года в год окружены толпой людей, которые превозносят их и восхищаются ими. Но волей из мужественных людей не обладает почти никто. Они бесстрашны, способны на действия очень смелые, однако обычные, не выходящие за рамки здравого смысла. Большинство мужественных людей внушают страх, их боятся. Но проявления воли относятся к достижениям, которые не укладываются ни в какие рамки нашей обычной реальности, поразительным действиям, выходящим за пределы здравого смысла.
— Воля — это владение собой?
— Можно сказать, что это один из видов контроля.
— Как ты думаешь, я могу тренировать волю, например, отказываясь от чего-то?
— Например, от того, чтобы задавать вопросы, — съязвил дон Хуан.
Тон его при этом был настолько въедлив, что я даже перестал писать и поднял на него глаза. Мы оба рассмеялись.
— Нет. Отказывая себе в чем-либо, человек потакает себе, идя на поводу самолюбия или даже
самовлюбленности. Я не советую заниматься подобными глупостями. Поэтому и позволяю тебе спрашивать — все, что ты пожелаешь. Если бы я потребовал от тебя прекратить задавать вопросы, ты мог бы поранить свою волю, пытаясь выполнить мое требование.
Самоограничение — самый худший и самый злостный вид потакания себе. Поступая подобным образом, мы заставляем себя верить, что совершаем нечто значительное, чуть ли не подвиг, а в действительности только ещё больше углубляемся в самолюбование, давая пищу самолюбию и чувству собственной важности. Отказаться от чего-то или заставить себя перестать что-то делать — это еще не проявление воли.
Если ты, например, заставишь себя перестать задавать вопросы, это действие не будет иметь с волей ничего общего. Воля — это энергия, сила, самостоятельная действующая единица. Она требует должного управления и настройки, на что требуется время. Мне это известно, поэтому в отношении тебя я спокоен. Когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, я был не менее импульсивен, чем ты. Но это прошло. Воле нет дела до наших слабостей, она работает несмотря ни на что. Твоя, например, уже начинает приоткрывать просвет.
— О каком просвете ты говоришь?
— У нас есть просвет, как родничок на голове младенца. Только родничок со временем закрывается, а этот просвет — наоборот, по мере того, как у человека развивается воля, становится все больше.
— Где он находится?
— Там, откуда исходят светящиеся волокна, — сказал он, показывая на мою брюшную полость.
— Для чего он?
— Через это отверстие, подобно стреле, выстреливается воля.
— Воля материальна?
— Нет. Я просто сказал так, чтобы тебе было понятнее. То, что маг называет волей, есть сила внутри нас самих. Это не мысль, не предмет, не желание. Прекратить задавать вопросы — не значит использовать волю, потому что для этого нужно думать и хотеть.
Воля — это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой рассудок говорит тебе, что ты повержен. Воля — это то, что делает тебя неуязвимым. Воля — это то, что позволяет магу пройти сквозь стену, преодолеть огромное расстояние, попасть на Луну, если он того пожелает.
Больше я ни о чём не хотел спрашивать. Я устал и вдобавок нервничал, потому что боялся, что дон Хуан попросит меня уехать.
— Пойдём на холмы, — сказал он неожиданно и встал. По пути он снова начал говорить о воле, посмеиваясь над тем, что я не мог записывать на ходу.
Он описал волю как силу, которая была истинным звеном между миром и людьми. К определению мира дон Хуан подошел очень тщательно, сказав что мир — это то, что мы воспринимаем, независимо от избранного нами способа восприятия. Дон Хуан считал, что «восприятию мира» сопутствует процесс «схватывания», то есть глубокого осознания того, что
перед нами предстало и было воспринято. Такое «комплексное» восприятие осуществляется органами чувств и волей.
Я спросил его, не является ли воля тем, что иногда называют «шестое чувство». Он ответил, что она, скорее, является связью между нами и воспринимаемым миром.
Я предложил остановиться, чтобы все это записать. Но он засмеялся и продолжал идти.
В тот вечер он так и не отправил меня в Лос-Анжелес. А на следующее утро, за завтраком, сам продолжил разговор о воле.
— То, что среди людей принято называть волей, — не более чем упорство и твёрдость характера, — сказал он, — То, что маг называет волей, — есть сила, которая исходит изнутри него и привязывается к внешнему миру. Она выходит через живот, прямо отсюда, где находятся
светящиеся волокна.
Он потер свой пупок, указывая место.
— Я говорю, что она выходит отсюда, потому что так это чувствуешь.
— Почему ты называешь это волей?
— Я вообще это никак не называю. Но мой бенефактор называл это волей, и все люди знания называют это так.
— Вчера ты сказал, что мир можно воспринимать как чувствами, так и волей. Что это означает?
— Обычный человек «схватывает» то, что есть в мире с помощью рук, глаз или ушей. Маг может «схватывать» также и с помощью воли. Я не могу описать тебе, как это делается, но ты сам, к примеру, не можешь описать мне, как ты слышишь. Так случилось, что я тоже могу слышать, поэтому мы можем говорить о том, что мы слышим, но не о том, как мы слышим.
Маг использует свою волю для того, чтобы ощущать мир. Но это ощущение не похоже на слуховое восприятие. Когда мы смотрим на мир или когда мы прислушиваемся к нему, у нас создается ощущение, что он вне нас и что он реален. Ощущая мир нашей волей, мы узнаем, что он не настолько «вне нас» и не так «реален», как мы думаем.
— Воля — это то же самое, что и видение?
— Нет. Воля — это сила, энергия. Видение — это не сила, а способ проникновения в суть вещей. Маг может иметь очень сильную волю, но он всё же может не видеть, что означает, что только человек знания ощущает мир своими чувствами, своей волей и своим видением.
Я сказал ему, что нахожусь в еще большем замешательстве, чем при разговоре о том, как использовать свою волю, чтобы забыть стража. Это заявление и мое недоумение, казалось, развеселили его.
— Я предупреждал, что слова только запутывают, — сказал он и засмеялся. — Теперь ты знаешь, что ждешь свою волю. Но ты все еще не знаешь, ни что это такое, ни как это может с тобой произойти. Поэтому тщательно следи за всем, что делаешь. В ежедневных мелочах, которыми ты занимаешься, кроется то, что поможет тебе развить волю.
Дон Хуан отсутствовал всё утро. Вернулся он после полудня с охапкой сухих растений. Кивком он попросил меня помочь, и несколько часов мы молча разбирали то, что он принес. Закончив, мы присели отдохнуть, и дон Хуан благосклонно улыбнулся. Я очень серьезно заявил, что внимательно перечитал свои позавчерашние и вчерашние заметки, но так и не понял, что значит «быть воином» и в чем суть понятия воли.
— Воля — не понятие, — сказал дон Хуан.
Это были первые его слова, обращенные ко мне тот день.
Он довольно долго молчал, а потом продолжил:
— Мы с тобой очень разные. Наши характеры непохожи. Ты по природе в большей степени склонен к насилию, чем я. В твоём возрасте я не был агрессивен, более того — я был робок. Ты же — наоборот, и в этом похож на моего бенефактора. Он бы идеально подошёл тебе в качестве учителя. Это был великий маг, но он не видел. Ни так, как я, ни так, как Хенаро. Я ориентируюсь в мире и живу, опираясь на видение.
Мой бенефактор должен был жить как воин. Видящий не должен жить как воин или как кто-то ещё, ему это ни к чему. Он видит, следовательно, для него всё в мире предстаёт в обличье своей истинной сущности, должным образом направляя его жизнь. Но, учитывая твой характер, я должен сказать тебе, что, возможно, ты так никогда и не научишься видеть. В этом случае тебе придется всю жизнь быть воином.
Мой бенефактор говорил: встав на путь знания, человек постепенно осознаёт, что обычная жизнь для него навсегда осталась позади, что знание — страшная вещь, и средства обычного мира уже не могут его защитить.
Поэтому, чтобы уцелеть, нужно жить по-новому. И первое, что необходимо сделать на этом пути, — захотеть стать воином. Важное решение и важный шаг.
На каждом повороте этого пути человек сталкивается с угрозой полного уничтожения, поэтому неизбежно начинает осознавать свою смерть. Без осознания смерти он останется только обычным человеком, совершающим заученные действия. Он не будет обладать мощью и способностью к концентрации, чтобы отведенное ему на этой земле время превратить в магическую силу. Поэтому, чтобы стать воином, человек прежде всего должен полностью осознать свою собственную смерть.
Дон Хуан замолчал и посмотрел на меня, словно ждал каких-то слов.
— Ты всё понял? — спросил он.
Я понял, что он сказал. Но представить себе, каким образом достигается отрешённость, не мог. Я сказал, что, судя по всему, уже добрался до той точки пути, в которой знание проявляет свою
устрашающую природу. С уверенностью могу утверждать, что более не нахожу поддержки в обычной жизни, что хочу стать воином, вернее, не хочу, а остро в этом нуждаюсь.
— Тогда тебе нужно отречься, — сказал он.
— Отречься от чего?
— Отречься от всего.
— Но это невозможно. Я не намерен становиться отшельником.
— Я не об этом. Стать отшельником — значит потакать себе, своей слабости. Отшельник не отрекается, он насильно загоняет себя в пустыню, принуждая к затворничеству, или бежит от женщины, трудностей, полагая, что это спасёт его от разрушительного действия сил жизни и судьбы. Но это — самообман.
Только мысль о смерти может дать человеку отрешённость, достаточную для того, чтобы принуждать себя к чему бы то ни было, равно как и для того, чтобы ни от чего не отказываться.
Но это — не страстная жажда, а молчаливая страсть, которую воин испытывает к жизни и ко всему, что в ней есть. Он знает, что смерть следует за ним по пятам и не даст ни за что зацепиться, поэтому он пробует всё, ни к чему не привязываясь.
И, таким образом, с осознанием своей смерти, своей отрешённости и силы своих решений воин размечает свою жизнь стратегически. Знание о своей смерти ведёт его, делает его отрешённым и молчаливо страждущим, и сила его окончательных решений делает его способным выбирать без сожалений, и то, что он выбирает, стратегически всегда самое лучшее.
Дон Хуан спросил меня, не хочу ли я что-нибудь сказать, и я заметил, что задача, которую он только что описал, отнимет всю жизнь. Он сказал, что, хотя я слишком часто перечил ему, он знает, что в повседневной жизни я во многом вел себя как воин.
— У тебя достаточно хорошие когти, — сказал он, смеясь. — Показывай их мне время от времени. Это хорошая практика.
Он сделал жест, изображая когти, и зарычал, а потом засмеялся. Затем он откашлялся и продолжал:
— Когда воин достиг терпения, он на пути к своей воле. Он знает, как ждать. Его смерть сидит рядом с ним на его циновке. Они друзья. Смерть загадочным образом советует ему, как варьировать обстоятельства и как жить стратегически. И воин ждёт.
Я бы сказал, что воин учится без всякой спешки, потому что он знает, что он ждёт свою волю. Однажды он добьётся успеха в свершении чего-то, что обычно совершенно невозможно выполнить. Он может даже не заметить своего необычного поступка. Но по мере того, как он продолжает совершать необычные поступки, или по мере того, как необычные вещи продолжают случаться с ним, он начинает сознавать проявление какой-то силы, исходящей из его тела.
Сначала она подобна зуду на животе или жжению, которое нельзя успокоить. Затем это становится болью, большим неудобством. Иногда боль и неудобство так велики, что у воина бывают конвульсии в течение месяца. Чем сильнее конвульсии, тем лучше для него. Отличной воле всегда предшествует сильная боль.
Когда конвульсии исчезают, воин замечает, что у него появляется странное чувство относительно вещей. Он замечает, что может, фактически, трогать всё, что он хочет тем чувством, которое исходит из его тела — из точки, находящейся в районе пупка. Это чувство есть воля, и когда он способен охватываться им, можно смело сказать, что воин — маг,
и что он достиг воли.
Дон Хуан остановился и, казалось, ждал моих замечаний или вопросов. Я был слишком занят мыслью, что маг должен испытывать боль и конвульсии, и мне было неудобно спрашивать его, должен ли я также пройти через это. Наконец, после долгого молчания, я спросил его об этом,
и он рассмеялся, как будто ждал этого вопроса. Он сказал, что боль не является абсолютно необходимой и что он, например, никогда не испытывал её, и воля просто пришла к нему.
— Однажды я был в горах, — начал он, — и натолкнулся на пуму, самку. Она была большая и голодная. Я побежал, и она погналась за мной. Я влез на скалу, а она остановилась в нескольких футах, готовая к нападению. Я стал бросать в неё камни. Она зарычала и собралась атаковать меня. И тогда моя воля полностью вышла; я остановил пуму до того, как она прыгнула. Я поласкал её своей волей. Я действительно потрогал ею её соски. Она посмотрела на меня сонными глазами и легла. А я побежал как сукин сын, не дожидаясь, пока она оправится.
Дон Хуан сделал очень комичный жест, изображая человека, которому дорога жизнь, бегущего и придерживающего свою шляпу.
Я сказал ему, что мне неловко думать, что меня ожидают только самки горных львов или конвульсии. Я хотел волю.
— Мой бенефактор был магом с большими силами, — продолжал он. — Он был воин до мозга костей. Его воля была действительно его самым чудесным достижением. Но человек может пойти ещё дальше. Человек может научиться видеть. После того, как он научился видеть, ему не нужно больше быть ни воином, ни магом.
Став видящим, человек становится всем, сделавшись ничем. Он как бы исчезает, и в то же время он остаётся. В принципе он может заполучить всё, что только пожелает, и достичь всего, к чему бы ни устремился. Но он не желает ничего, и вместо того, чтобы забавляться, играя обычными людьми, как безмозглыми игрушками, он растворяется среди них, разделяя их глупость. Единственная разница состоит в том, что видящий контролирует свою глупость, а обычный человек — нет. Став видящим, человек теряет интерес к своим ближним. Видение позволяет ему отрешиться от всего, что он знал раньше.
— Меня бросает в дрожь при одной только мысли об отрешении от всего, что я знаю, — сказал я.
— Ты, должно быть, шутишь! Тебя должно бросать в дрожь не от этой мысли, а оттого, что впереди у тебя нет ничего, кроме рутинного повторения одних и тех же действий в течение всей
жизни.
Представь человека, который из года в год выращивает зерно, и так до тех пор, пока силы не покидают его, и он не падает, подобно старому облезлому псу. Все его мысли и чувства, всё, что в нём есть самого лучшего, принесено в жертву одному — добыче еды, производству пропитания. Бессмысленная жертва, пустая трата времени — жить, чтобы питаться, и питаться ради жизни, и снова жить, чтобы питаться, и так — до самой смерти.
Развлечения, придуманные людьми, как бы они при этом ни изощрялись, — всего лишь жалкие потуги забыться, не выходя за пределы порочного круга — питаться, чтобы жить, и жить, чтобы питаться… Как по мне, то не может быть страшнее потери!
Мы — люди, и наша судьба, наше предназначение — учиться ради открытия все новых и новых непостижимых миров.
— Что, новые миры — это реальность? — спросил я недоверчиво.
— Глупый ты! Мы ещё только в самом начале пути. Видение доступно лишь безупречному воину. Закали свой дух и стань таковым. Тогда, научившись видеть, ты узнаешь, что непознанным мирам нет числа и что все они — здесь, перед нами.