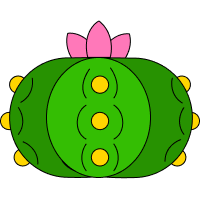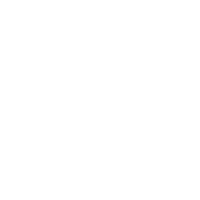Содержание
— Введение — система знаний дона Хуана, обучение ребёнка описанию, чувственные интерпретации, новое описание мира, воспитание сына приятеля, остановка мира, видение
Часть первая
Остановка мира
Глава 1. Мир соглашается
Глава 2. Стирание личной истории
Глава 3. Отказ от чувства собственной важности — правильная ходьба, ЧСВ и растения
Глава 4. Смерть-советчик — мелочность, касание смерти
Глава 5. Принять ответственность — действие, решения, принять идею, ответственность, взяться
Глава 6. Стать охотником — сведение глаз, чувствовать глазами, охота, изменить жизнь, признание
Глава 7. Стать недоступным — мир, доступность и недоступность
Глава 8. Разрушение распорядков, олень
Глава 9. Последняя битва на земле — изменения, битва, кролик
Глава 10. Открыться силе — сновидение, сила, руки, ветка, сила и остановка мира
Глава 11. Настроение воина — укрепление духа, настроение воина, перемещение во сне, горный лев, настроение воина 2
Глава 12. Битва силы — личная сила, головная повязка, мост, битва силы, прощание с туманом
Глава 13. Последняя остановка воина — любимое место, места во сне, последний танец
Часть первая
Остановка мира
Глава 1. Мир соглашается
Глава 2. Стирание личной истории
Глава 3. Отказ от чувства собственной важности — правильная ходьба, ЧСВ и растения
Глава 4. Смерть-советчик — мелочность, касание смерти
Глава 5. Принять ответственность — действие, решения, принять идею, ответственность, взяться
Глава 6. Стать охотником — сведение глаз, чувствовать глазами, охота, изменить жизнь, признание
Глава 7. Стать недоступным — мир, доступность и недоступность
Глава 8. Разрушение распорядков, олень
Глава 9. Последняя битва на земле — изменения, битва, кролик
Глава 10. Открыться силе — сновидение, сила, руки, ветка, сила и остановка мира
Глава 11. Настроение воина — укрепление духа, настроение воина, перемещение во сне, горный лев, настроение воина 2
Глава 12. Битва силы — личная сила, головная повязка, мост, битва силы, прощание с туманом
Глава 13. Последняя остановка воина — любимое место, места во сне, последний танец
Введение
Чтобы исключить возможность какой-либо путаницы относительно моей работы с доном Хуаном, то я никогда не предпринимал никаких попыток соотнести дона Хуана с какой-либо социально-культурной средой. Себя он считал индейцем яки, однако это отнюдь не означает, что система известных ему знаний являлась достоянием всего племени яки или только ими практиковалась.
Говорили мы по-испански, и только благодаря тому, что он в совершенстве владел этим языком, мне удалось получить исчерпывающее толкование его практической системы.
Я называл эту систему магией, а дона Хуана — магом, поскольку именно такими категориями пользовался он сам.
Работая с доном Хуаном, я относился к нему только как к магу. Соответственно, мои усилия сводились лишь к тому, чтобы приобщиться к его системе магических знаний.
Здесь следует особо остановиться на одном моменте, лежащем в основе системы магического знания. В передаче дона Хуана маг, в отличие от обычного человека, не считает мир повседневной жизни чем-то устойчивым и однозначно реальным.
Говорили мы по-испански, и только благодаря тому, что он в совершенстве владел этим языком, мне удалось получить исчерпывающее толкование его практической системы.
Я называл эту систему магией, а дона Хуана — магом, поскольку именно такими категориями пользовался он сам.
Работая с доном Хуаном, я относился к нему только как к магу. Соответственно, мои усилия сводились лишь к тому, чтобы приобщиться к его системе магических знаний.
Здесь следует особо остановиться на одном моменте, лежащем в основе системы магического знания. В передаче дона Хуана маг, в отличие от обычного человека, не считает мир повседневной жизни чем-то устойчивым и однозначно реальным.
Для мага реальность, то есть мир как мы его знаем, — не более чем описание
В попытках убедить меня в правомерности такого подхода дон Хуан приложил все усилия, чтобы я убедился на собственном опыте:
мир, который я привык считать реальным и основательным, — всего лишь описание мира, программа восприятия, которую закладывали в моё сознание с самого рождения
В его объяснении каждый человек, который вступает в общение с ребёнком, непрерывно разворачивает перед ним своё описание мира. Таким образом все, кого ребёнок встречает в своей жизни, становятся для него учителями. Они учат его определённым образом описывать мир, и в какое-то мгновение ребёнок начинает воспринимать мир в соответствии со сформированным в его сознании описанием.
Этот момент имеет огромное значение, поскольку, ни много ни мало, определяет всю нашу судьбу. Дон Хуан утверждал, что мы не помним об этом моменте попросту потому, что нам не с чем сравнивать.
Однако именно в этот миг человек «входит в мир». Ребёнок становится полноправным членом группы людей, использующих определённое описание мира. Он владеет этим описанием и способен в его рамках соответствующим образом интерпретировать то, что воспринимает.
Этот момент имеет огромное значение, поскольку, ни много ни мало, определяет всю нашу судьбу. Дон Хуан утверждал, что мы не помним об этом моменте попросту потому, что нам не с чем сравнивать.
Однако именно в этот миг человек «входит в мир». Ребёнок становится полноправным членом группы людей, использующих определённое описание мира. Он владеет этим описанием и способен в его рамках соответствующим образом интерпретировать то, что воспринимает.
Интерпретации подтверждают описание, которое становится ещё более устойчивым
Таким образом, с точки зрения дона Хуана, реальность нашей повседневности состоит из бесконечного потока чувственных интерпретаций. Являясь членами группы лиц, использующих одно и то же описание мира, мы просто научились одинаково интерпретировать явления, воспринимаемые нашими органами чувств.
Впечатление цельности картины мира, составленной из чувственных интерпретаций, обусловлено тем, что последние следуют нескончаемым слитным потоком и, за ничтожными исключениями, практически никогда не подвергаются сомнению.
В самом деле, мы давно привыкли к гарантированной однозначности того, что считаем реальностью, и вряд ли способны сколько-нибудь серьёзно отнестись к основной предпосылке магического знания, по которой
Впечатление цельности картины мира, составленной из чувственных интерпретаций, обусловлено тем, что последние следуют нескончаемым слитным потоком и, за ничтожными исключениями, практически никогда не подвергаются сомнению.
В самом деле, мы давно привыкли к гарантированной однозначности того, что считаем реальностью, и вряд ли способны сколько-нибудь серьёзно отнестись к основной предпосылке магического знания, по которой
эта реальность — всего лишь одно из множества возможных описаний мира
К счастью, дона Хуана вообще не интересовало, могу ли я серьёзно воспринимать то, что он говорит. Он просто излагал положения своей системы, не обращая внимания ни на моё неприятие, ни на моё неверие, ни даже на мою неспособность его понять. Таким образом, с самой первой нашей встречи дон Хуан был для меня в роли учителя магического знания, неуклонно внедряя в моё сознание своё описание мира.
Смысловые блоки этого нового описания настолько не соответствовали основам привычной для меня картины реальности и были до такой степени чужды моему восприятию, что осознание каждого понятия, входившего в систему дона Хуана, требовало от меня чрезвычайных усилий.
Он заявлял, что учит меня «видеть», подразумевая под этим способ восприятия, принципиально отличающийся от обычного зрительного восприятия, которое дон Хуан определял словом «смотреть». Первым шагом на пути к «видению» была, по его словам, «остановка мира».
Все эти годы я считал «остановку мира» лишь загадочной метафорой, лишённой точного смысла. И только недавно, в самом конце своего ученичества, во время разговора, не имевшего, казалось бы, прямого отношения к процессу обучения, я неожиданно осознал всю глубину и значимость этого понятия. Оно оказалось одним из краеугольных камней, лежащих в основе всего учения.
Смысловые блоки этого нового описания настолько не соответствовали основам привычной для меня картины реальности и были до такой степени чужды моему восприятию, что осознание каждого понятия, входившего в систему дона Хуана, требовало от меня чрезвычайных усилий.
Он заявлял, что учит меня «видеть», подразумевая под этим способ восприятия, принципиально отличающийся от обычного зрительного восприятия, которое дон Хуан определял словом «смотреть». Первым шагом на пути к «видению» была, по его словам, «остановка мира».
Все эти годы я считал «остановку мира» лишь загадочной метафорой, лишённой точного смысла. И только недавно, в самом конце своего ученичества, во время разговора, не имевшего, казалось бы, прямого отношения к процессу обучения, я неожиданно осознал всю глубину и значимость этого понятия. Оно оказалось одним из краеугольных камней, лежащих в основе всего учения.
Мы с доном Хуаном просто сидели и болтали о том о сём, и я рассказал ему об одном из своих приятелей, у которого были серьёзные проблемы с девятилетним сыном. Последние четыре года мальчик жил с матерью, а потом отец забрал его к себе и сразу же столкнулся с вопросом: что делать с ребёнком?
По словам моего друга, тот совершенно не мог учиться в школе, потому что его ничто не интересовало, и, кроме того, у мальчика совершенно отсутствовала способность к сосредоточению. Часто ребёнок без видимых причин раздражался, вёл себя агрессивно и даже несколько раз пытался сбежать из дома.
— Да, — и впрямь — проблема, — усмехнулся дон Хуан.
Я хотел было ещё кое-что рассказать ему о «фокусах» ребёнка, но дон Хуан меня оборвал.
— Достаточно. Не нам судить о его поступках. Бедный малыш!
Сказано это было довольно резко и твёрдо. Но затем дон Хуан улыбнулся.
— Но что же все-таки делать моему приятелю? — спросил я.
— Худшее, что он может сделать, — это заставить ребёнка согласиться, — сказал дон Хуан.
— Что ты имеешь в виду?
— Отец ни в коем случае не должен ругать или шлёпать мальчика, когда тот поступает не так, как от него требуется, или плохо себя ведёт.
— Да, но если не проявить твёрдость, как же тогда хоть чему-нибудь научить ребёнка?
— Пусть твой приятель сделает так, чтобы ребёнка отшлёпал кто-то другой.
Предложение дона Хуана меня удивило.
— Да ведь он не позволит никому даже пальцем до него дотронуться!
Моя же реакция ему определённо понравилась. Он усмехнулся и сказал:
— Твой друг — не воин. Будь он воином, ему было бы известно, что
По словам моего друга, тот совершенно не мог учиться в школе, потому что его ничто не интересовало, и, кроме того, у мальчика совершенно отсутствовала способность к сосредоточению. Часто ребёнок без видимых причин раздражался, вёл себя агрессивно и даже несколько раз пытался сбежать из дома.
— Да, — и впрямь — проблема, — усмехнулся дон Хуан.
Я хотел было ещё кое-что рассказать ему о «фокусах» ребёнка, но дон Хуан меня оборвал.
— Достаточно. Не нам судить о его поступках. Бедный малыш!
Сказано это было довольно резко и твёрдо. Но затем дон Хуан улыбнулся.
— Но что же все-таки делать моему приятелю? — спросил я.
— Худшее, что он может сделать, — это заставить ребёнка согласиться, — сказал дон Хуан.
— Что ты имеешь в виду?
— Отец ни в коем случае не должен ругать или шлёпать мальчика, когда тот поступает не так, как от него требуется, или плохо себя ведёт.
— Да, но если не проявить твёрдость, как же тогда хоть чему-нибудь научить ребёнка?
— Пусть твой приятель сделает так, чтобы ребёнка отшлёпал кто-то другой.
Предложение дона Хуана меня удивило.
— Да ведь он не позволит никому даже пальцем до него дотронуться!
Моя же реакция ему определённо понравилась. Он усмехнулся и сказал:
— Твой друг — не воин. Будь он воином, ему было бы известно, что
в отношениях с человеческими существами не может быть ничего хуже и бесполезнее прямого противостояния
— А что в таких случаях делает воин, дон Хуан?
— Воин действует стратегически.
— Все равно я не понимаю, что ты хочешь этим сказать.
— А вот что: если бы твой друг был воином, он помог бы сыну остановить мир.
— Каким образом?
— Для этого ему потребовалась бы личная сила. Он должен быть магом.
— Но он ведь не маг.
— В таком случае нужно, чтобы изменилась картина мира, к которой привык мальчик. А в этом ему можно помочь и обычными средствами. Это ещё не остановка мира, но сработают они, пожалуй, не хуже.
Я попросил объяснить. Дон Хуан сказал:
— На месте твоего друга я бы нанял кого-нибудь, чтобы тот отшлёпал парнишку. Порыскал бы хорошенько по трущобам и нашёл бы там мужчину как можно более жуткой наружности.
— Чтобы тот испугал малыша?
— Глупый ты, просто испугать в этом случае — мало.
Ребёнка необходимо остановить, но отец ничего не добьётся, если сам будет ругать его или бить. Чтобы остановить человека, необходимо сильно на него «нажать». Однако самому при этом нужно оставаться вне видимой связи с факторами и обстоятельствами, непосредственно связанными с этим давлением. Только тогда давлением можно управлять.
Идея показалась мне нелепой, но что-то в ней было.
Дон Хуан сидел, облокотившись левой рукой на ящик и подпирая ладонью подбородок. Глаза его были закрыты, но под веками двигались глазные яблоки, словно он по-прежнему меня разглядывал. Мне стало не по себе, и я сказал:
— Может, ты все же объяснишь подробнее, что делать моему приятелю?
— Пусть отправится в трущобы и найдёт самого жуткого ублюдка, только помоложе и покрепче.
Затем дон Хуан изложил довольно странный план, которому должен последовать мой приятель. Нужно сделать так, чтобы во время очередной прогулки с ребёнком нанятый тип следовал за ними или поджидал их в условленном месте.
При первом же проступке сына отец подаст знак, бродяга выскочит из засады, схватит мальчика и отлупит как следует.
— А потом пусть отец как сможет успокоит мальчика и поможет прийти в себя. Я думаю, трёх-четырёх раз будет достаточно, чтобы круто изменить отношение мальчика ко всему, что его окружает. Картина мира станет для него иной.
— А испуг не повредит ему? Не искалечит психику?
— Воин действует стратегически.
— Все равно я не понимаю, что ты хочешь этим сказать.
— А вот что: если бы твой друг был воином, он помог бы сыну остановить мир.
— Каким образом?
— Для этого ему потребовалась бы личная сила. Он должен быть магом.
— Но он ведь не маг.
— В таком случае нужно, чтобы изменилась картина мира, к которой привык мальчик. А в этом ему можно помочь и обычными средствами. Это ещё не остановка мира, но сработают они, пожалуй, не хуже.
Я попросил объяснить. Дон Хуан сказал:
— На месте твоего друга я бы нанял кого-нибудь, чтобы тот отшлёпал парнишку. Порыскал бы хорошенько по трущобам и нашёл бы там мужчину как можно более жуткой наружности.
— Чтобы тот испугал малыша?
— Глупый ты, просто испугать в этом случае — мало.
Ребёнка необходимо остановить, но отец ничего не добьётся, если сам будет ругать его или бить. Чтобы остановить человека, необходимо сильно на него «нажать». Однако самому при этом нужно оставаться вне видимой связи с факторами и обстоятельствами, непосредственно связанными с этим давлением. Только тогда давлением можно управлять.
Идея показалась мне нелепой, но что-то в ней было.
Дон Хуан сидел, облокотившись левой рукой на ящик и подпирая ладонью подбородок. Глаза его были закрыты, но под веками двигались глазные яблоки, словно он по-прежнему меня разглядывал. Мне стало не по себе, и я сказал:
— Может, ты все же объяснишь подробнее, что делать моему приятелю?
— Пусть отправится в трущобы и найдёт самого жуткого ублюдка, только помоложе и покрепче.
Затем дон Хуан изложил довольно странный план, которому должен последовать мой приятель. Нужно сделать так, чтобы во время очередной прогулки с ребёнком нанятый тип следовал за ними или поджидал их в условленном месте.
При первом же проступке сына отец подаст знак, бродяга выскочит из засады, схватит мальчика и отлупит как следует.
— А потом пусть отец как сможет успокоит мальчика и поможет прийти в себя. Я думаю, трёх-четырёх раз будет достаточно, чтобы круто изменить отношение мальчика ко всему, что его окружает. Картина мира станет для него иной.
— А испуг не повредит ему? Не искалечит психику?
— Испуг никому не вредит. Если что и калечит наш дух — то это как раз постоянные придирки, оплеухи и указания, что нужно делать, а что нет
Когда мальчик станет достаточно управляемым, скажешь своему другу ещё одно, последнее; пусть найдёт способ показать сыну мёртвого ребёнка. Где-нибудь в больнице или морге. И пускай мальчик потрогает труп. Левой рукой, в любом месте, кроме живота. После этого он станет другим человеком и никогда уже не сможет воспринимать мир так же, как раньше.
И тут я понял, что все эти годы дон Хуан применял подобную тактику в отношении меня самого. В других масштабах, при иных обстоятельствах, но с тем же самым принципом в основе. Я спросил, так ли это, и он подтвердил, сказав, что с самого начала старался научить меня «останавливать мир».
— Но пока безуспешно, — сказал он с улыбкой. — Ты непробиваем. Наверно, потому что слишком упрям. Если бы не твоё потрясающее упрямство, ты бы уже, наверно, мог останавливать мир любым из приёмов, которым я тебя учил.
— Каких приёмов, дон Хуан?
— Все, что я заставлял тебя делать, — это и есть приёмы, с помощью которых останавливают мир.
Несколько месяцев спустя дон Хуан все же добился своего. Я остановил мир.
Это событие было одним из поворотных в моей жизни. Оно заставило меня тщательно пересмотреть все, что имело место в течение десяти лет обучения.
С полной очевидностью я осознал: моё первоначальное предположение относительно принципиального значения психотропных растений — ошибка. Они вовсе не являются важным аспектом магического описания мира, они лишь помогают свести воедино разрозненные части этого описания. Просто в силу особенностей характера я был не в состоянии воспринимать эти части без помощи растений.
Упорно цепляясь за привычную версию реальности, я был глух и слеп к тому, что дон Хуан пытался внедрить в моё сознание. И только эта моя нечувствительность заставляла его использовать в моём обучении психотропные средства.
Просматривая полевые записи, я пришёл к заключению, что основы нового для меня магического описания мира дон Хуан дал мне ещё в самом начале нашего знакомства, обучая тому, что он называл приёмами устанавливания мира. Но это не было связано с применением психотропных растений и поэтому осталось за рамками моего внимания.
Теперь пришло время вернуть целостность учению дона Хуана, расставив все по своим местам. Этому посвящены первые семнадцать глав настоящей книги. В остальных трех речь идёт о событиях, в результате которых мне удалось наконец «остановить мир».
Подводя итог, я могу сказать, что в начале ученичества у дона Хуана я столкнулся с иной реальностью; то есть, кроме привычного, знакомого мне описания мира, имело место описание магическое, которым я не владел.
Маг и учитель, дон Хуан на протяжении десяти лет последовательно разворачивал передо мной новое описание мира, добавляя по мере моего продвижения все новые и новые его аспекты.
Окончание ученичества означало, что я в полной мере усвоил новое описание, научившись тем самым воспринимать мир в соответствии с этим описанием. Другими словами, я окончательно «вошёл в новый мир», сделавшись полноправным членом группы, использующей магическое его описание.
Дон Хуан утверждал, что на пути к «видению» сначала нужно «остановить мир». Термин «остановка мира», пожалуй, действительно наиболее удачен для обозначения определённых состояний сознания, в которых осознаваемая повседневная реальность кардинальным образом изменяется благодаря остановке обычно непрерывного потока чувственных интерпретаций некоторой совокупностью обстоятельств и фактов, никоим образом в этот поток не вписывающихся.
В моем случае роль такой совокупности сыграло магическое описание мира. По мнению дона Хуан, необходимым условием «остановки мира» является убеждённость. Иначе говоря, необходимо прочно усвоить новое описание. Это нужно для того, чтобы затем, противопоставив его старому, разрушить догматическую уверенность, свойственную подавляющему большинству человечества, — уверенность в том, что однозначность и обоснованность нашего восприятия, то есть картины мира, которую мы считаем реальностью, не подлежит сомнению.
— Но пока безуспешно, — сказал он с улыбкой. — Ты непробиваем. Наверно, потому что слишком упрям. Если бы не твоё потрясающее упрямство, ты бы уже, наверно, мог останавливать мир любым из приёмов, которым я тебя учил.
— Каких приёмов, дон Хуан?
— Все, что я заставлял тебя делать, — это и есть приёмы, с помощью которых останавливают мир.
Несколько месяцев спустя дон Хуан все же добился своего. Я остановил мир.
Это событие было одним из поворотных в моей жизни. Оно заставило меня тщательно пересмотреть все, что имело место в течение десяти лет обучения.
С полной очевидностью я осознал: моё первоначальное предположение относительно принципиального значения психотропных растений — ошибка. Они вовсе не являются важным аспектом магического описания мира, они лишь помогают свести воедино разрозненные части этого описания. Просто в силу особенностей характера я был не в состоянии воспринимать эти части без помощи растений.
Упорно цепляясь за привычную версию реальности, я был глух и слеп к тому, что дон Хуан пытался внедрить в моё сознание. И только эта моя нечувствительность заставляла его использовать в моём обучении психотропные средства.
Просматривая полевые записи, я пришёл к заключению, что основы нового для меня магического описания мира дон Хуан дал мне ещё в самом начале нашего знакомства, обучая тому, что он называл приёмами устанавливания мира. Но это не было связано с применением психотропных растений и поэтому осталось за рамками моего внимания.
Теперь пришло время вернуть целостность учению дона Хуана, расставив все по своим местам. Этому посвящены первые семнадцать глав настоящей книги. В остальных трех речь идёт о событиях, в результате которых мне удалось наконец «остановить мир».
Подводя итог, я могу сказать, что в начале ученичества у дона Хуана я столкнулся с иной реальностью; то есть, кроме привычного, знакомого мне описания мира, имело место описание магическое, которым я не владел.
Маг и учитель, дон Хуан на протяжении десяти лет последовательно разворачивал передо мной новое описание мира, добавляя по мере моего продвижения все новые и новые его аспекты.
Окончание ученичества означало, что я в полной мере усвоил новое описание, научившись тем самым воспринимать мир в соответствии с этим описанием. Другими словами, я окончательно «вошёл в новый мир», сделавшись полноправным членом группы, использующей магическое его описание.
Дон Хуан утверждал, что на пути к «видению» сначала нужно «остановить мир». Термин «остановка мира», пожалуй, действительно наиболее удачен для обозначения определённых состояний сознания, в которых осознаваемая повседневная реальность кардинальным образом изменяется благодаря остановке обычно непрерывного потока чувственных интерпретаций некоторой совокупностью обстоятельств и фактов, никоим образом в этот поток не вписывающихся.
В моем случае роль такой совокупности сыграло магическое описание мира. По мнению дона Хуан, необходимым условием «остановки мира» является убеждённость. Иначе говоря, необходимо прочно усвоить новое описание. Это нужно для того, чтобы затем, противопоставив его старому, разрушить догматическую уверенность, свойственную подавляющему большинству человечества, — уверенность в том, что однозначность и обоснованность нашего восприятия, то есть картины мира, которую мы считаем реальностью, не подлежит сомнению.
Следующим этапом после «остановки мира» является «видение». То, что под этим понимал дон Хуан, я определил бы как
способность воспринимать аспекты мира, выходящие за рамки описания, которое мы приучены считать реальностью
Я твёрдо уверен: понять этапы магической практики можно только на основе соответствующего описания мира.
С самого начала обучения именно дон Хуан последовательно знакомил меня с этим описанием.
Поэтому для меня его учение остаётся единственным источником, приоткрывающим доступ к реальности, скрытой за магическим описанием мира, и пусть слова дона Хуана говорят сами за себя.
С самого начала обучения именно дон Хуан последовательно знакомил меня с этим описанием.
Поэтому для меня его учение остаётся единственным источником, приоткрывающим доступ к реальности, скрытой за магическим описанием мира, и пусть слова дона Хуана говорят сами за себя.
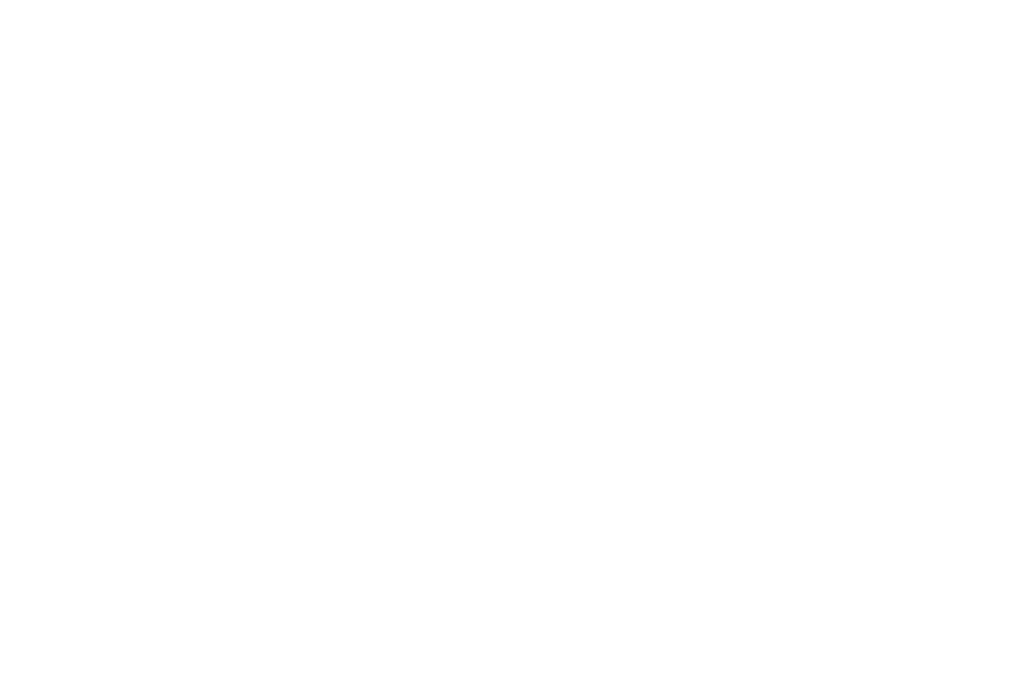
Часть первая. Остановка мира
Глава 1. Мир соглашается
Люди, как правило, не отдают себе отчёта в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни все, что угодно
Вот так.
И дон Хуан щёлкнул пальцами, как бы демонстрируя, насколько просто это делается.
— Ты думаешь, так легко бросить пить или, скажем, курить? — спросил я.
— Ну конечно! — убеждённо воскликнул он.
— Бросить пить или курить — вообще дело плёвое. Эти привычки — ерунда, ничто, если мы намерены от них отказаться.
В это мгновение кипяток в кофеварке весело забулькал.
— Слышишь? — воскликнул дон Хуан, блеснув глазами. — Кипяток со мной согласен.
И, помолчав немного, добавил:
— Человек может получать подтверждение от всего, что его окружает.
Тут кофеварка издала булькающий звук, напоминающий нечто не совсем приличное.
Дон Хуан взглянул на кофеварку и мягко произнёс:
— Спасибо.
И дон Хуан щёлкнул пальцами, как бы демонстрируя, насколько просто это делается.
— Ты думаешь, так легко бросить пить или, скажем, курить? — спросил я.
— Ну конечно! — убеждённо воскликнул он.
— Бросить пить или курить — вообще дело плёвое. Эти привычки — ерунда, ничто, если мы намерены от них отказаться.
В это мгновение кипяток в кофеварке весело забулькал.
— Слышишь? — воскликнул дон Хуан, блеснув глазами. — Кипяток со мной согласен.
И, помолчав немного, добавил:
— Человек может получать подтверждение от всего, что его окружает.
Тут кофеварка издала булькающий звук, напоминающий нечто не совсем приличное.
Дон Хуан взглянул на кофеварку и мягко произнёс:
— Спасибо.
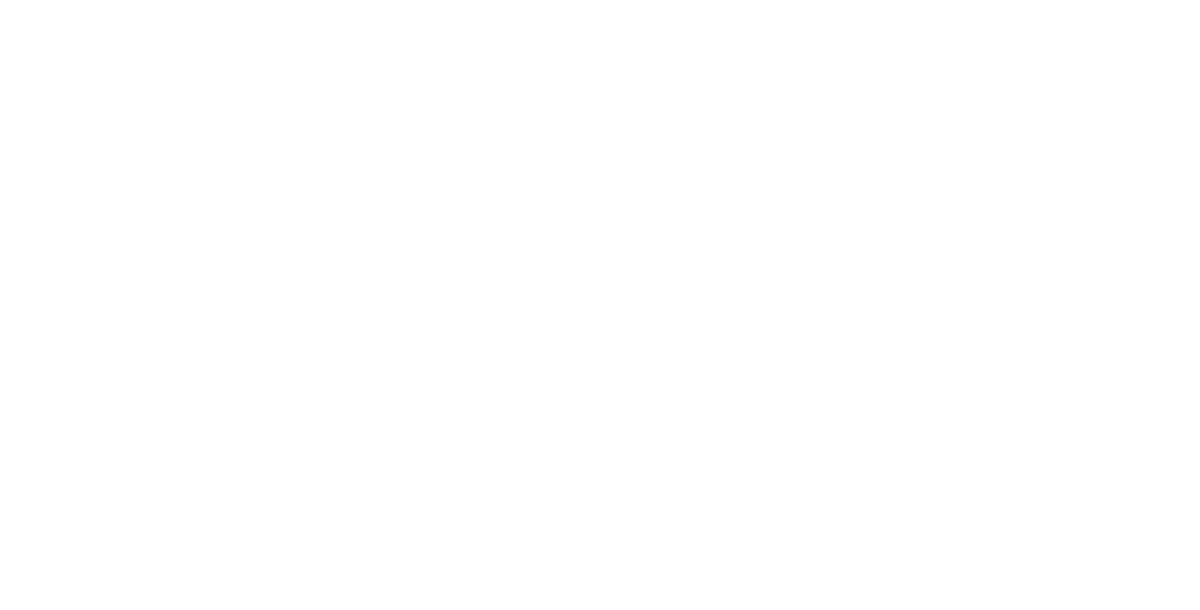
Глава 2. Стирание личной истории
— То, что мне известно, — яки я или нет, ещё не является личной историей.
Личной историей становится лишь то, что знаю не только я, но и кто-нибудь другой
Дон Хуан сказал, что у каждого, кто меня знает, сформировался определённый образ моей личности. И любым своим действием я как бы подпитываю и ещё больше фиксирую этот образ.
— Неужели тебе не ясно? — драматически сказал он. — Твоя личная история постоянно нуждается в том, чтобы её сохраняли и обновляли. Поэтому ты рассказываешь своим друзьям и родственникам обо всем, что делаешь. А если бы у тебя не было личной истории, надобность в объяснениях тут же отпала бы. Твои действия не могли бы никого рассердить или разочаровать, а самое главное — ты не был бы связан ничьими мыслями.
Чтобы вернуть разговор в нужное мне русло, я сказал:
— Почему мы вообще обо всем этом заговорили? Мне ведь, собственно, только нужно было заполнить опросную карту.
— Как почему? — ответил он. — Мы заговорили об этом, потому что я сказал:
— Неужели тебе не ясно? — драматически сказал он. — Твоя личная история постоянно нуждается в том, чтобы её сохраняли и обновляли. Поэтому ты рассказываешь своим друзьям и родственникам обо всем, что делаешь. А если бы у тебя не было личной истории, надобность в объяснениях тут же отпала бы. Твои действия не могли бы никого рассердить или разочаровать, а самое главное — ты не был бы связан ничьими мыслями.
Чтобы вернуть разговор в нужное мне русло, я сказал:
— Почему мы вообще обо всем этом заговорили? Мне ведь, собственно, только нужно было заполнить опросную карту.
— Как почему? — ответил он. — Мы заговорили об этом, потому что я сказал:
задавать вопросы о прошлом — занятие совершенно никчёмное
Говорил он очень твёрдо. Я понял, что ничего не добьюсь, и решил изменить тактику.
— Освобождение от личной истории присуще всем индейцам яки? — спросил я.
— Оно присуще мне.
— А как ты этому научился?
— Жизнь научила.
— Тебя учил отец?
— Нет. Скажем так, я научился этому сам. И сегодня я открою тебе эту тайну, так что ты уедешь отсюда не с пустыми руками.
Его голос перешёл в торжественный шёпот. Это актёрство меня рассмешило. Я не мог не признать, что в этом он — большой мастер. Мне даже пришло в голову, что я имею дело с прирождённым артистом.
— Давай, — покровительственным тоном сказал дон Хуан, — Записывай. Ты ведь без этого жить не можешь.
Я взглянул на него, и в моих глазах, должно быть, мелькнуло скрытое замешательство. Он хлопнул себя по ляжкам и с довольным видом рассмеялся.
— Освобождение от личной истории присуще всем индейцам яки? — спросил я.
— Оно присуще мне.
— А как ты этому научился?
— Жизнь научила.
— Тебя учил отец?
— Нет. Скажем так, я научился этому сам. И сегодня я открою тебе эту тайну, так что ты уедешь отсюда не с пустыми руками.
Его голос перешёл в торжественный шёпот. Это актёрство меня рассмешило. Я не мог не признать, что в этом он — большой мастер. Мне даже пришло в голову, что я имею дело с прирождённым артистом.
— Давай, — покровительственным тоном сказал дон Хуан, — Записывай. Ты ведь без этого жить не можешь.
Я взглянул на него, и в моих глазах, должно быть, мелькнуло скрытое замешательство. Он хлопнул себя по ляжкам и с довольным видом рассмеялся.
Всю личную историю следует стереть для того, чтобы освободиться от ограничений, которые накладывают на нас своими мыслями другие люди
Я не верил своим ушам. Он не мог этого сказать. Я был буквально подавлен, что, должно быть, отразилось на моем лице. Он не преминул этим воспользоваться.
— Вот ты, например, — продолжал он. — В данный момент ты недоумеваешь, гадая, кто же я такой. Почему? Потому что я стер личную историю, постепенно окутав туманом свою личность и всю свою жизнь. И теперь никто не может с уверенностью сказать, кто я такой и что делаю.
— Но ты-то сам знаешь, разве не так? — вставил я.
— Я-то, будь уверен… тоже нет! — воскликнул он и затрясся от смеха. Прежде чем сказать «тоже нет» он выдержал довольно длинную паузу, и я был уверен, что он скажет «знаю». В его неожиданном ответе было что-то угрожающее, и я вновь почувствовал страх.
— Это и есть та маленькая тайна, которую я намерен тебе сегодня открыть, — тихо произнёс дон Хуан.
— Никто не знает моей личной истории. Никому не известно, кто я такой и что делаю. Даже мне самому.
Прищурившись, он смотрел в пространство за моим правым плечом.
Так он сидел, глядя в пространство перед собой довольно долго.
— Откуда мне знать, кто я такой, если все это — я? — спросил он, движением головы указывая на все, что нас окружало: потом он взглянул на меня и улыбнулся.
— Ты должен постепенно создать вокруг себя туман, шаг за шагом стирая все вокруг себя до тех пор, пока не останется ничего гарантированного, однозначного или очевидного.
Сейчас твоя проблема в том, что ты слишком реален. Реальны все твои намерения и начинания, все твои действия, все твои настроения и побуждения. Но всё не так однозначно и определённо, как ты привык считать. Тебе нужно взяться за стирание своей личности.
— … если ты хочешь изучать растения, то должен, кроме всего прочего, стереть свою личную историю.
— Но каким образом? — спросил я.
— Начни с простого — никому не рассказывай о том, что в действительности делаешь. Потом расстанься со всеми, кто хорошо тебя знает. В итоге вокруг тебя постепенно возникнет туман.
— Но это же полный абсурд! — воскликнул я. — Почему меня никто не должен знать? Что в этом плохого?
— Плохо то, что те, кто хорошо тебя знают, воспринимают твою личность как вполне определённое явление. И как только с их стороны формируется такое к тебе отношение, ты уже не в силах разорвать путы их представлений о тебе. Мне же нравится полная свобода неизвестности. Никто не знает меня с полной определённостью, как, например, многие знают тебя.
— Но в этом уже присутствует ложь.
— Ложь или правда — мне до этого дела нет, — жёстко произнёс он.
— Вот ты, например, — продолжал он. — В данный момент ты недоумеваешь, гадая, кто же я такой. Почему? Потому что я стер личную историю, постепенно окутав туманом свою личность и всю свою жизнь. И теперь никто не может с уверенностью сказать, кто я такой и что делаю.
— Но ты-то сам знаешь, разве не так? — вставил я.
— Я-то, будь уверен… тоже нет! — воскликнул он и затрясся от смеха. Прежде чем сказать «тоже нет» он выдержал довольно длинную паузу, и я был уверен, что он скажет «знаю». В его неожиданном ответе было что-то угрожающее, и я вновь почувствовал страх.
— Это и есть та маленькая тайна, которую я намерен тебе сегодня открыть, — тихо произнёс дон Хуан.
— Никто не знает моей личной истории. Никому не известно, кто я такой и что делаю. Даже мне самому.
Прищурившись, он смотрел в пространство за моим правым плечом.
Так он сидел, глядя в пространство перед собой довольно долго.
— Откуда мне знать, кто я такой, если все это — я? — спросил он, движением головы указывая на все, что нас окружало: потом он взглянул на меня и улыбнулся.
— Ты должен постепенно создать вокруг себя туман, шаг за шагом стирая все вокруг себя до тех пор, пока не останется ничего гарантированного, однозначного или очевидного.
Сейчас твоя проблема в том, что ты слишком реален. Реальны все твои намерения и начинания, все твои действия, все твои настроения и побуждения. Но всё не так однозначно и определённо, как ты привык считать. Тебе нужно взяться за стирание своей личности.
— … если ты хочешь изучать растения, то должен, кроме всего прочего, стереть свою личную историю.
— Но каким образом? — спросил я.
— Начни с простого — никому не рассказывай о том, что в действительности делаешь. Потом расстанься со всеми, кто хорошо тебя знает. В итоге вокруг тебя постепенно возникнет туман.
— Но это же полный абсурд! — воскликнул я. — Почему меня никто не должен знать? Что в этом плохого?
— Плохо то, что те, кто хорошо тебя знают, воспринимают твою личность как вполне определённое явление. И как только с их стороны формируется такое к тебе отношение, ты уже не в силах разорвать путы их представлений о тебе. Мне же нравится полная свобода неизвестности. Никто не знает меня с полной определённостью, как, например, многие знают тебя.
— Но в этом уже присутствует ложь.
— Ложь или правда — мне до этого дела нет, — жёстко произнёс он.
Ложь существует только для тех, у кого есть личная история
— Если у человека нет личной истории, то все, что бы он ни сказал, ложью не будет.
Твоя беда в том, что ты вынужден всем все объяснять, и в то же время ты хочешь сохранить ощущение свежести и новизны от того, что делаешь.
Но оно исчезает после того, как ты рассказал кому-нибудь обо всем, что сделал, поэтому чтобы продлить его, тебе необходимо выдумывать.
— Отныне, — сказал он,
Твоя беда в том, что ты вынужден всем все объяснять, и в то же время ты хочешь сохранить ощущение свежести и новизны от того, что делаешь.
Но оно исчезает после того, как ты рассказал кому-нибудь обо всем, что сделал, поэтому чтобы продлить его, тебе необходимо выдумывать.
— Отныне, — сказал он,
ты просто должен показывать людям то, что считаешь нужным, но никогда не говори, как достиг этого
— Но я не умею хранить тайны! — воскликнул я. — Поэтому то, что ты говоришь, для меня бесполезно.
— Видишь ли, — продолжал он, — наш выбор ограничен: либо мы принимаем, что всё — реально и определённо, либо — нет.
Если мы выбираем первое, то в конце концов смертельно устаём и от себя самих, и от всего, что нас окружает.
Если же мы выбираем второе и стираем личную историю, то все вокруг нас погружается в туман. Это восхитительное и таинственное состояние, когда никто, даже ты сам, не знает, откуда выскочит кролик.
Я возразил, что стирание личной истории лишь усугубит чувство неуверенности и незащищённости..
— Видишь ли, — продолжал он, — наш выбор ограничен: либо мы принимаем, что всё — реально и определённо, либо — нет.
Если мы выбираем первое, то в конце концов смертельно устаём и от себя самих, и от всего, что нас окружает.
Если же мы выбираем второе и стираем личную историю, то все вокруг нас погружается в туман. Это восхитительное и таинственное состояние, когда никто, даже ты сам, не знает, откуда выскочит кролик.
Я возразил, что стирание личной истории лишь усугубит чувство неуверенности и незащищённости..
Когда отсутствует какая бы то ни было определённость, мы все время начеку, мы постоянно готовы к прыжку
— сказал он
Гораздо интереснее не знать, за каким кустом прячется кролик, чем вести себя так, словно тебе всё давным-давно известно
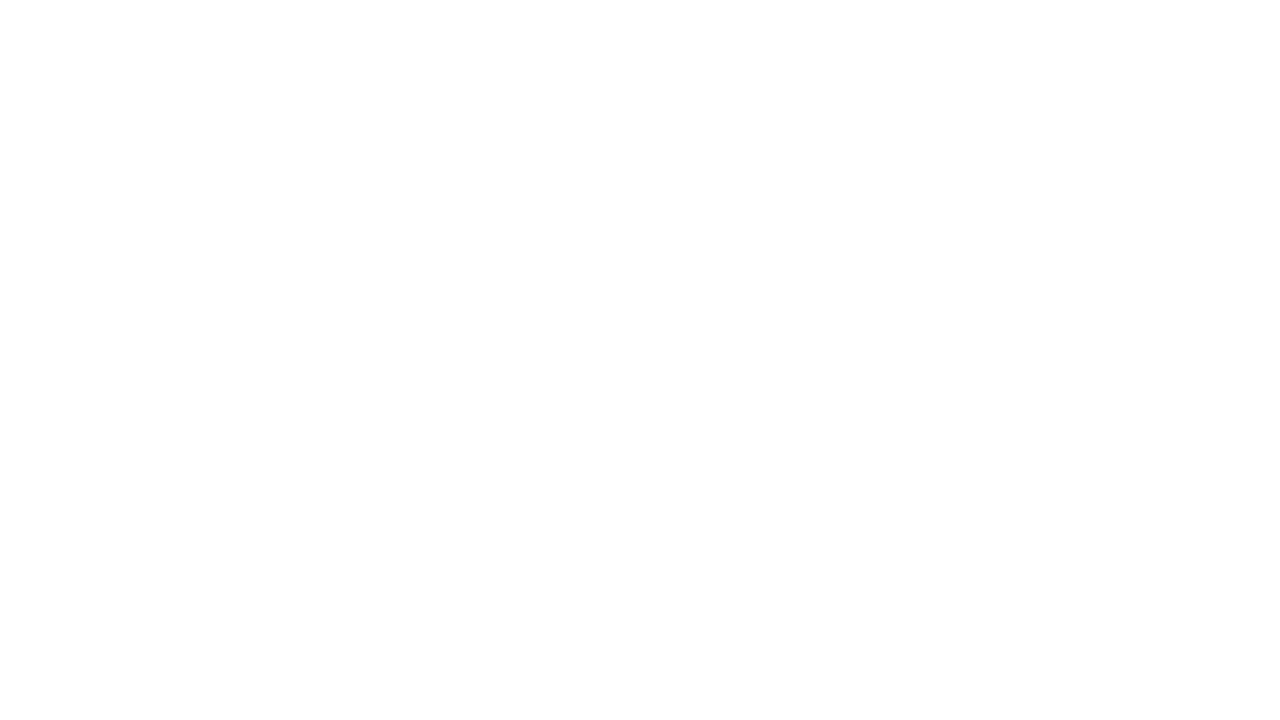
Глава 3. Отказ от чувства собственной важности
Мы шли несколько часов. Растений он не собирал и мне не показывал, зато научил меня «правильно ходить». Он сказал, что удерживать внимание на траве и окружающей обстановке легче, если при ходьбе слегка подогнуть пальцы рук.
Он заявил, что моя обычная походка ослабляет внимание и лишает сил, кроме того, никогда ничего нельзя носить в руках. Для поклажи следует пользоваться рюкзаком или заплечным мешком.
Особое положение рук, сказал дон Хуан, повышает выносливость и обостряет внимание.
Он заявил, что моя обычная походка ослабляет внимание и лишает сил, кроме того, никогда ничего нельзя носить в руках. Для поклажи следует пользоваться рюкзаком или заплечным мешком.
Особое положение рук, сказал дон Хуан, повышает выносливость и обостряет внимание.
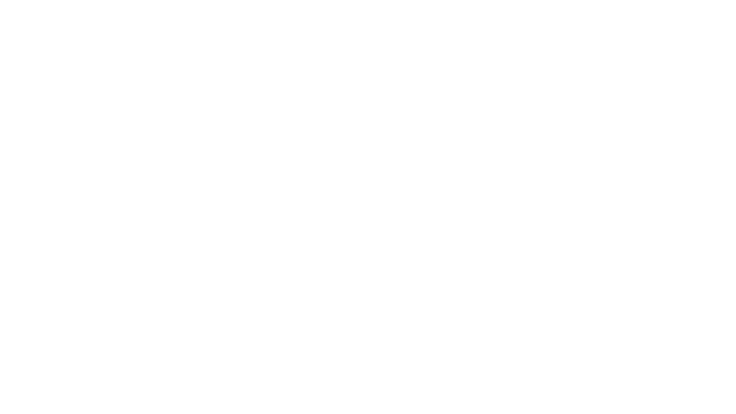
— Ты слишком серьёзно к себе относишься, — медленно проговорил он. — И воспринимаешь себя как чертовски важную персону. Это нужно изменить!
Ведь ты настолько важен, что считаешь себя вправе раздражаться по любому поводу. Настолько важен, что можешь позволить себе развернуться и уйти, когда ситуация складывается не так, как тебе этого хочется.
Возможно, ты полагаешь, что тем самым демонстрируешь силу своего характера. Но это же чушь! Ты — слабый, чванливый и самовлюблённый тип!
Я попытался было возразить, но дон Хуан не позволил. Он сказал, что из-за непомерно раздутого чувства собственной важности я за всю свою жизнь не довёл до конца ни единого дела.
Я был поражён уверенностью, с которой он говорит. Но все его слова, разумеется, в полной мере соответствовали истине, и это меня не только разозлило, но и здорово напугало.
— Чувство собственной важности, так же как личная история, относится к тому, от чего следует избавиться, — веско произнёс он.
Пока ты чувствуешь, что наиболее важное и значительное явление в мире — это твоя персона, ты никогда не сможешь по-настоящему ощутить окружающий мир. Точно зашоренная лошадь, ты не видишь в нем ничего, кроме самого себя.
Какое-то время он разглядывал меня, словно изучая, а потом сказал, указывая на небольшое растение:
— Поговорю-ка я со своим маленьким другом.
Он встал на колени, погладил кустик и заговорил с ним. Я сперва ничего не понял, но потом дон Хуан перешёл на испанский, и я услышал, что он бормочет какой-то вздор. Потом он поднялся.
— Неважно, что говорить растению, — сказал он. — Говори что угодно, хоть собственные слова выдумывай. Важно только, чтобы в душе ты относился к растению с любовью и обращался к нему, как равный к равному.
Собирая растения, объяснил он, нужно извиняться перед ними за причиняемый вред и заверять их в том, что однажды и твоё собственное тело послужит им пищей.
— Так что в итоге мы с ними равны, — заключил дон Хуан. — Мы не важнее их, они — не важнее нас.
Он снисходительно улыбнулся и произнёс ещё одну из своих загадочных фраз, повторив её три или четыре раза:
— Мы находимся в таинственном мире. И люди значат здесь ничуть не больше всего прочего. И если растение поступает благородно по отношению к нам, мы должны его поблагодарить, иначе оно вполне может не дать нам уйти отсюда.
При этом он взглянул на меня так, что я похолодел. Я поспешно наклонился к растениям и громко сказал:
— Спасибо!
Ведь ты настолько важен, что считаешь себя вправе раздражаться по любому поводу. Настолько важен, что можешь позволить себе развернуться и уйти, когда ситуация складывается не так, как тебе этого хочется.
Возможно, ты полагаешь, что тем самым демонстрируешь силу своего характера. Но это же чушь! Ты — слабый, чванливый и самовлюблённый тип!
Я попытался было возразить, но дон Хуан не позволил. Он сказал, что из-за непомерно раздутого чувства собственной важности я за всю свою жизнь не довёл до конца ни единого дела.
Я был поражён уверенностью, с которой он говорит. Но все его слова, разумеется, в полной мере соответствовали истине, и это меня не только разозлило, но и здорово напугало.
— Чувство собственной важности, так же как личная история, относится к тому, от чего следует избавиться, — веско произнёс он.
Пока ты чувствуешь, что наиболее важное и значительное явление в мире — это твоя персона, ты никогда не сможешь по-настоящему ощутить окружающий мир. Точно зашоренная лошадь, ты не видишь в нем ничего, кроме самого себя.
Какое-то время он разглядывал меня, словно изучая, а потом сказал, указывая на небольшое растение:
— Поговорю-ка я со своим маленьким другом.
Он встал на колени, погладил кустик и заговорил с ним. Я сперва ничего не понял, но потом дон Хуан перешёл на испанский, и я услышал, что он бормочет какой-то вздор. Потом он поднялся.
— Неважно, что говорить растению, — сказал он. — Говори что угодно, хоть собственные слова выдумывай. Важно только, чтобы в душе ты относился к растению с любовью и обращался к нему, как равный к равному.
Собирая растения, объяснил он, нужно извиняться перед ними за причиняемый вред и заверять их в том, что однажды и твоё собственное тело послужит им пищей.
— Так что в итоге мы с ними равны, — заключил дон Хуан. — Мы не важнее их, они — не важнее нас.
Он снисходительно улыбнулся и произнёс ещё одну из своих загадочных фраз, повторив её три или четыре раза:
— Мы находимся в таинственном мире. И люди значат здесь ничуть не больше всего прочего. И если растение поступает благородно по отношению к нам, мы должны его поблагодарить, иначе оно вполне может не дать нам уйти отсюда.
При этом он взглянул на меня так, что я похолодел. Я поспешно наклонился к растениям и громко сказал:
— Спасибо!
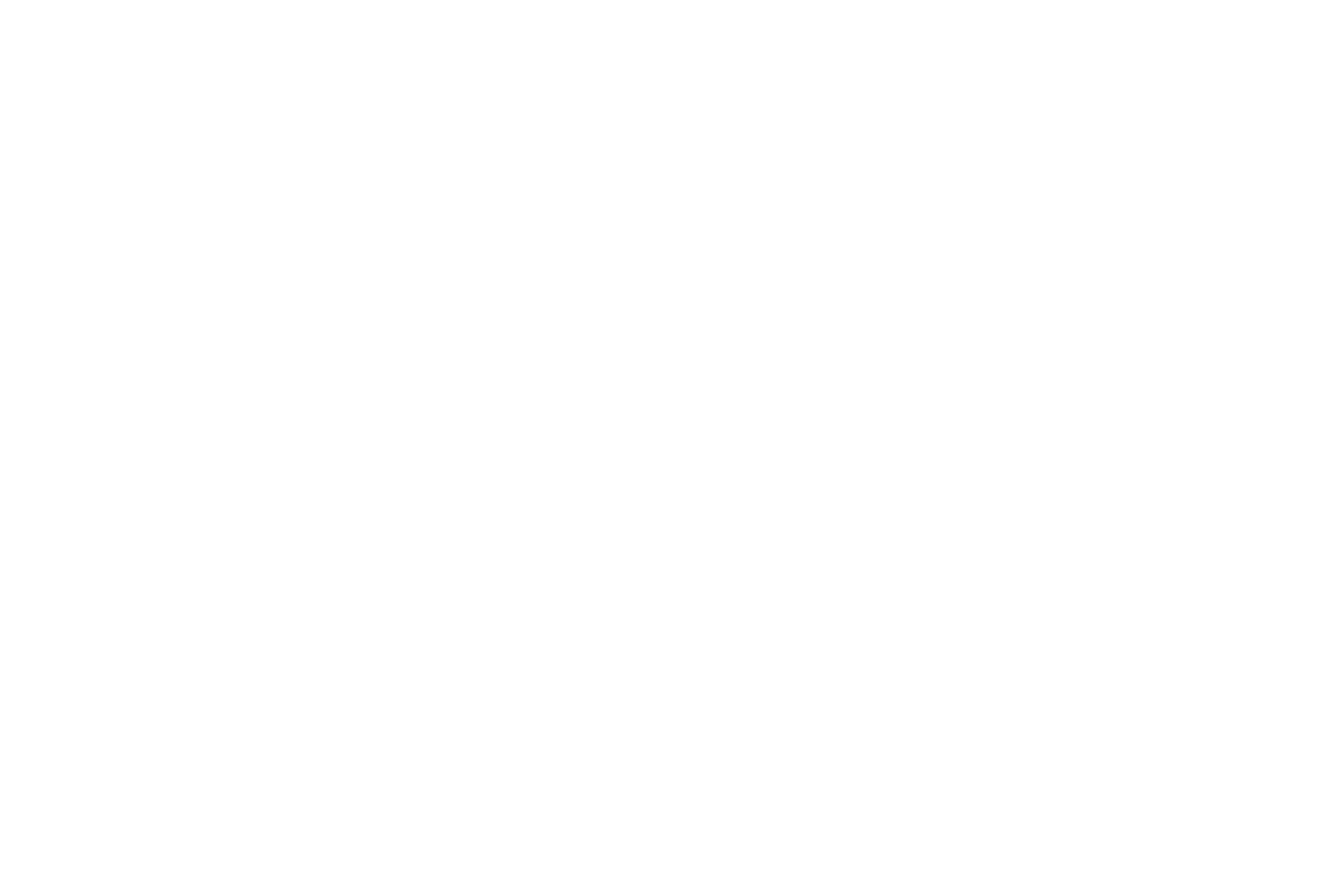
Глава 4. Смерть-советчик
Дон Хуан внимательно выслушал мой рассказ о белом соколе.
— Откуда ты о нём узнал? — спросил я.
— Я увидел его, — ответил он.
— Где?
— Прямо здесь, перед тобой.
Я не был настроен спорить и спросил:
— Что всё это значит?
Он ответил, что белая птица вроде этой — знак, и отказ от того, чтобы в неё выстрелить, был единственным правильным решением.
— Смерть ненавязчиво предупредила тебя, — с таинственным видом произнёс дон Хуан. — Она всегда приходит как холод в позвоночнике.
— О чем ты говоришь? — нервно спросил я.
Он в самом деле действовал мне на нервы своей мистической болтовнёй.
— Ты много знаешь о птицах, — сказал он. — Ты убил их слишком много. Ты знаешь, как нужно ждать. Ты часами неподвижно ждал. Я знаю. Я вижу.
От его слов все мои мысли и чувства пришли в полнейший беспорядок. Я подумал, что больше всего меня раздражает та уверенность, с которой он делает свои заявления. Эта догматическая однозначность была для меня невыносимой, тем более что речь шла о том, что касалось только меня и моей жизни, и в чем я сам не был уверен.
Дон Хуан наклонился ко мне, но я был настолько подавлен, что не замечал этого, пока он что-то не прошептал мне в самое ухо. Сперва я не понял, и ему пришлось повторить. Он велел мне как бы невзначай обернуться и взглянуть на камень слева от себя. Он сказал, что моя смерть сидит там и смотрит на меня, и, если я по его сигналу поверну голову, то, возможно, смогу её заметить.
Он сделал знак глазами. Я оглянулся, и мне показалось, что я заметил, как над камнем что-то мелькнуло. По спине прокатилась холодная волна, мышцы живота непроизвольно напряглись, и все тело судорожно дёрнулось. Мгновение спустя я совладал с собой, и тут же уверил себя в том, что движение, которое я заметил над камнем, — это оптическая иллюзия, вызванная резким поворотом головы.
— Смерть — наш вечный попутчик, — сказал дон Хуан предельно серьёзным тоном. — Она всегда находится слева от нас на расстоянии вытянутой руки.
Когда ты ждал, глядя на белого сокола, она наблюдала за тобой и что-то шепнула тебе на ухо, и ты ощутил её холод, так же как ощутил его сегодня. Она всегда за тобой наблюдала. И будет наблюдать, пока не настанет день, когда она похлопает тебя по плечу.
Дон Хуан вытянул руку и слегка коснулся моего плеча, громко щёлкнув языком. Эффект был поистине сокрушительный: меня почти вывернуло наизнанку.
— Ты принял правила игры и выжидал терпеливо, как выжидает смерть, и так же, как она, ты находился слева от белого сокола.
Странная сила его слов ввергла меня в состояние дикого неуправляемого ужаса, и я принялся лихорадочно записывать все, что он сказал, потому что другого способа защиты у меня не было.
— Как можно чувствовать себя настолько важной персоной, когда знаешь, что смерть неуклонно идёт по твоему следу? — спросил дон Хуан.
Я чувствовал, что ответа не требуется. Впрочем, в любом случае я был не в состоянии что-либо произнести. Совершенно новое настроение охватило меня.
А дон Хуан продолжал:
— Когда ты в нетерпении или раздражён — оглянись налево и спроси совета у своей смерти. Масса мелочной шелухи мигом отлетит прочь, если смерть подаст тебе знак, или если краем глаза ты уловишь её движение, или просто почувствуешь, что твой попутчик — всегда рядом и все время внимательно за тобой наблюдает.
Он снова наклонился ко мне и прошептал в самое ухо, что, резко оглянувшись налево по его знаку, я опять увижу на камне свою смерть.
Он едва заметно мигнул, но оглянуться я не отважился. Я сказал, что верю, и что в этом плане ему больше нет нужды на меня давить, потому что я и так в ужасе. Дон Хуан разразился своим раскатистым грудным хохотом.
Он ответил, что в вопросах, касающихся наших взаимоотношений со своей смертью, просто невозможно нажать на психику человека так сильно, как следовало бы. Но я возразил, сказав, что в моём случае бессмысленно столь углубленно это рассматривать, потому что ничего, кроме ощущения страха и дискомфорта, мысль о смерти мне не даёт.
— Ты просто доверху набит всяким вздором! — воскликнул он. — Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, — это смерть. Каждый раз, когда ты чувствуешь, как это часто с тобой бывает, что все складывается из рук вон плохо и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у своей смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься, и что кроме её прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: «Но я же ещё не коснулась тебя!»
Дон Хуан покачал головой, как бы ожидая моей реакции. Но мне нечего было сказать. Мысли в бешеном темпе сменяли одна другую. По моему самомнению был нанесён сокрушительный удар. В свете моей смерти раздражение по адресу дона Хуана выглядело настолько мелочным!
Я чувствовал, что дон Хуан в полной мере осознает все изменения, которые произошли в моём настроении. Он выиграл, и теперь все складывалось в его пользу. Он начал напевать мексиканскую песенку.
— Да, — мягко произнёс он после длинной паузы. — Один из нас должен снова осознать, что смерть охотится за каждым из нас, что она всегда рядом, за нашим левым плечом. Один из нас должен
— Откуда ты о нём узнал? — спросил я.
— Я увидел его, — ответил он.
— Где?
— Прямо здесь, перед тобой.
Я не был настроен спорить и спросил:
— Что всё это значит?
Он ответил, что белая птица вроде этой — знак, и отказ от того, чтобы в неё выстрелить, был единственным правильным решением.
— Смерть ненавязчиво предупредила тебя, — с таинственным видом произнёс дон Хуан. — Она всегда приходит как холод в позвоночнике.
— О чем ты говоришь? — нервно спросил я.
Он в самом деле действовал мне на нервы своей мистической болтовнёй.
— Ты много знаешь о птицах, — сказал он. — Ты убил их слишком много. Ты знаешь, как нужно ждать. Ты часами неподвижно ждал. Я знаю. Я вижу.
От его слов все мои мысли и чувства пришли в полнейший беспорядок. Я подумал, что больше всего меня раздражает та уверенность, с которой он делает свои заявления. Эта догматическая однозначность была для меня невыносимой, тем более что речь шла о том, что касалось только меня и моей жизни, и в чем я сам не был уверен.
Дон Хуан наклонился ко мне, но я был настолько подавлен, что не замечал этого, пока он что-то не прошептал мне в самое ухо. Сперва я не понял, и ему пришлось повторить. Он велел мне как бы невзначай обернуться и взглянуть на камень слева от себя. Он сказал, что моя смерть сидит там и смотрит на меня, и, если я по его сигналу поверну голову, то, возможно, смогу её заметить.
Он сделал знак глазами. Я оглянулся, и мне показалось, что я заметил, как над камнем что-то мелькнуло. По спине прокатилась холодная волна, мышцы живота непроизвольно напряглись, и все тело судорожно дёрнулось. Мгновение спустя я совладал с собой, и тут же уверил себя в том, что движение, которое я заметил над камнем, — это оптическая иллюзия, вызванная резким поворотом головы.
— Смерть — наш вечный попутчик, — сказал дон Хуан предельно серьёзным тоном. — Она всегда находится слева от нас на расстоянии вытянутой руки.
Когда ты ждал, глядя на белого сокола, она наблюдала за тобой и что-то шепнула тебе на ухо, и ты ощутил её холод, так же как ощутил его сегодня. Она всегда за тобой наблюдала. И будет наблюдать, пока не настанет день, когда она похлопает тебя по плечу.
Дон Хуан вытянул руку и слегка коснулся моего плеча, громко щёлкнув языком. Эффект был поистине сокрушительный: меня почти вывернуло наизнанку.
— Ты принял правила игры и выжидал терпеливо, как выжидает смерть, и так же, как она, ты находился слева от белого сокола.
Странная сила его слов ввергла меня в состояние дикого неуправляемого ужаса, и я принялся лихорадочно записывать все, что он сказал, потому что другого способа защиты у меня не было.
— Как можно чувствовать себя настолько важной персоной, когда знаешь, что смерть неуклонно идёт по твоему следу? — спросил дон Хуан.
Я чувствовал, что ответа не требуется. Впрочем, в любом случае я был не в состоянии что-либо произнести. Совершенно новое настроение охватило меня.
А дон Хуан продолжал:
— Когда ты в нетерпении или раздражён — оглянись налево и спроси совета у своей смерти. Масса мелочной шелухи мигом отлетит прочь, если смерть подаст тебе знак, или если краем глаза ты уловишь её движение, или просто почувствуешь, что твой попутчик — всегда рядом и все время внимательно за тобой наблюдает.
Он снова наклонился ко мне и прошептал в самое ухо, что, резко оглянувшись налево по его знаку, я опять увижу на камне свою смерть.
Он едва заметно мигнул, но оглянуться я не отважился. Я сказал, что верю, и что в этом плане ему больше нет нужды на меня давить, потому что я и так в ужасе. Дон Хуан разразился своим раскатистым грудным хохотом.
Он ответил, что в вопросах, касающихся наших взаимоотношений со своей смертью, просто невозможно нажать на психику человека так сильно, как следовало бы. Но я возразил, сказав, что в моём случае бессмысленно столь углубленно это рассматривать, потому что ничего, кроме ощущения страха и дискомфорта, мысль о смерти мне не даёт.
— Ты просто доверху набит всяким вздором! — воскликнул он. — Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, — это смерть. Каждый раз, когда ты чувствуешь, как это часто с тобой бывает, что все складывается из рук вон плохо и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у своей смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься, и что кроме её прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: «Но я же ещё не коснулась тебя!»
Дон Хуан покачал головой, как бы ожидая моей реакции. Но мне нечего было сказать. Мысли в бешеном темпе сменяли одна другую. По моему самомнению был нанесён сокрушительный удар. В свете моей смерти раздражение по адресу дона Хуана выглядело настолько мелочным!
Я чувствовал, что дон Хуан в полной мере осознает все изменения, которые произошли в моём настроении. Он выиграл, и теперь все складывалось в его пользу. Он начал напевать мексиканскую песенку.
— Да, — мягко произнёс он после длинной паузы. — Один из нас должен снова осознать, что смерть охотится за каждым из нас, что она всегда рядом, за нашим левым плечом. Один из нас должен
обратиться к смерти за советом, чтобы избавиться от бездарной мелочности, свойственной людям, которые живут так, словно смерть никогда их не коснётся
Больше часа мы молчали, а потом пошли обратно. Несколько часов мы петляли по пустынному чапаралю. Я не спрашивал, для чего это нужно, — это не имело значения.
Каким-то образом дону Хуану удалось вернуть мне давно забытое чувство огромной радости просто оттого, что я есть, что я иду, не придавая этому никакого глубокомысленного значения и не ставя перед собой никаких интеллектуальных целей.
Я захотел ещё раз взглянуть на то, что видел там, на камне.
— Сделай так, чтобы я смог ещё раз увидеть тень, — попросил я.
— Ты говоришь о своей смерти, да? — уточнил дон Хуан с оттенком иронии в голосе.
Мгновение я боролся с внутренним сопротивлением, но в конце концов решился:
— Да. Сделай так, чтобы я смог ещё раз увидеть свою смерть.
— Не сейчас, — сказал он. — Сейчас ты слишком твёрд.
— Не понимаю…
Дон Хуан засмеялся, и смех его почему-то не был обидным и предательским, как раньше. Я бы не сказал, что теперь он смеялся не так, как прежде, — тон, громкость и дух этого смеха остались неизменными. Но новый элемент все же присутствовал, и элементом этим было моё настроение.
С точки зрения неотступности смерти моё раздражение и все мои страхи становились совершенно бессмысленной ерундой.
— Тогда позволь мне поговорить с растениями, — попросил я.
Дон Хуан разразился хохотом.
— Сейчас ты слишком хорош, — сказал он, не переставая смеяться. — Но тебя бросает из крайности в крайность. Успокойся. Ни к чему разговаривать с растениями, если тебе не нужно узнать их секреты, а для того, чтобы это понадобилось, необходимо обладать несгибаемым намерением. Так что прибереги свои наилучшие побуждения для другого случая.
Точно так же
Каким-то образом дону Хуану удалось вернуть мне давно забытое чувство огромной радости просто оттого, что я есть, что я иду, не придавая этому никакого глубокомысленного значения и не ставя перед собой никаких интеллектуальных целей.
Я захотел ещё раз взглянуть на то, что видел там, на камне.
— Сделай так, чтобы я смог ещё раз увидеть тень, — попросил я.
— Ты говоришь о своей смерти, да? — уточнил дон Хуан с оттенком иронии в голосе.
Мгновение я боролся с внутренним сопротивлением, но в конце концов решился:
— Да. Сделай так, чтобы я смог ещё раз увидеть свою смерть.
— Не сейчас, — сказал он. — Сейчас ты слишком твёрд.
— Не понимаю…
Дон Хуан засмеялся, и смех его почему-то не был обидным и предательским, как раньше. Я бы не сказал, что теперь он смеялся не так, как прежде, — тон, громкость и дух этого смеха остались неизменными. Но новый элемент все же присутствовал, и элементом этим было моё настроение.
С точки зрения неотступности смерти моё раздражение и все мои страхи становились совершенно бессмысленной ерундой.
— Тогда позволь мне поговорить с растениями, — попросил я.
Дон Хуан разразился хохотом.
— Сейчас ты слишком хорош, — сказал он, не переставая смеяться. — Но тебя бросает из крайности в крайность. Успокойся. Ни к чему разговаривать с растениями, если тебе не нужно узнать их секреты, а для того, чтобы это понадобилось, необходимо обладать несгибаемым намерением. Так что прибереги свои наилучшие побуждения для другого случая.
Точно так же
нет необходимости в том, чтобы встречаться со смертью — достаточно чувствовать, что она всегда рядом
Глава 5. Принять ответственность
— А сейчас подумай о своей смерти, — неожиданно велел дон Хуан. — Она — на расстоянии вытянутой руки. И в любое мгновение может похлопать тебя по плечу, так что в действительности у тебя нет времени на вздорные мысли и настроения. Времени на это нет ни у кого из нас.
Ты хочешь знать, что я сделал с тобой в тот день, когда мы впервые встретились?
Я видел тебя. И я видел, что ты думаешь, что врёшь мне. Но ты не врал, ты действительно не врал.
Я сказал, что его объяснение только ещё больше меня запутало. Он ответил, что именно по этой причине не хотел мне ничего объяснять, и что
Ты хочешь знать, что я сделал с тобой в тот день, когда мы впервые встретились?
Я видел тебя. И я видел, что ты думаешь, что врёшь мне. Но ты не врал, ты действительно не врал.
Я сказал, что его объяснение только ещё больше меня запутало. Он ответил, что именно по этой причине не хотел мне ничего объяснять, и что
в зачёт идёт только одно — действие
Действие, а не разговоры.
Он вытащил соломенную циновку и улёгся на неё, подложив под голову какой-то свёрток. Устроившись поудобнее, он сказал, что мне предстоит ещё кое-что сделать, если я действительно хочу изучать растения.
— Я увидел в тебе тогда один существенный недостаток — ты не любишь принимать ответственность за свои действия, — медленно произнёс дон Хуан, как бы давая мне время понять, о чем он говорит.
— Когда ты говорил мне всё это на автостанции, ты прекрасно отдавал себе отчёт в том, что врёшь. Почему ты врал?
Я объяснил, что делал это, чтобы заполучить «главного информатора» для своей работы.
Дон Хуан улыбнулся и затянул мексиканскую мелодию.
— Если ты что-то решил, нужно идти до конца, — сказал он, — но при этом необходимо принять на себя ответственность за то, что делаешь. Что именно человек делает, значения не имеет, но он должен знать, зачем он это делает, и действовать без сомнений и сожалений.
Он смотрел на меня изучающе. Я не знал, что сказать. Наконец, у меня сформировалось мнение, почти протест. Я воскликнул:
— Но это же невозможно!
Он спросил, почему, а я ответил, что, наверно, было бы идеально, если бы люди обдумывали все, что собираются сделать. Но на практике, однако, такое невозможно, и невозможно избежать сомнений и сожалений.
— Ещё как возможно! — убеждённо возразил дон Хуан, — Взгляни на меня. У меня не бывает ни сомнений, ни сожалений. Всё, что я делаю, я делаю по собственному решению, и принимаю на себя всю полноту ответственности за это.
Самое простое действие, например, прогулка с тобой по пустыне, может означать для меня смерть. Смерть неуклонно идёт по моему следу. Поэтому места для сомнений и сожалений я оставить не могу. И если во время нашей с тобой прогулки мне предстоит умереть в пустыне, то я должен там умереть.
Ты же, в отличие от меня, ведёшь себя так, словно ты бессмертен, а бессмертный человек может позволить себе отменять свои решения, сожалеть о том, что он их принял, и в них сомневаться. В мире, где за каждым охотится смерть, приятель, нет времени на сожаления или сомнения. Время есть лишь на то, чтобы принимать решения.
Я был раздражён и подавлен больше, чем когда-либо до этого. Я сказал, что моё поведение — не его дело, и что не с его познаниями об этом судить, а он разразился грудным хохотом.
Он вытащил соломенную циновку и улёгся на неё, подложив под голову какой-то свёрток. Устроившись поудобнее, он сказал, что мне предстоит ещё кое-что сделать, если я действительно хочу изучать растения.
— Я увидел в тебе тогда один существенный недостаток — ты не любишь принимать ответственность за свои действия, — медленно произнёс дон Хуан, как бы давая мне время понять, о чем он говорит.
— Когда ты говорил мне всё это на автостанции, ты прекрасно отдавал себе отчёт в том, что врёшь. Почему ты врал?
Я объяснил, что делал это, чтобы заполучить «главного информатора» для своей работы.
Дон Хуан улыбнулся и затянул мексиканскую мелодию.
— Если ты что-то решил, нужно идти до конца, — сказал он, — но при этом необходимо принять на себя ответственность за то, что делаешь. Что именно человек делает, значения не имеет, но он должен знать, зачем он это делает, и действовать без сомнений и сожалений.
Он смотрел на меня изучающе. Я не знал, что сказать. Наконец, у меня сформировалось мнение, почти протест. Я воскликнул:
— Но это же невозможно!
Он спросил, почему, а я ответил, что, наверно, было бы идеально, если бы люди обдумывали все, что собираются сделать. Но на практике, однако, такое невозможно, и невозможно избежать сомнений и сожалений.
— Ещё как возможно! — убеждённо возразил дон Хуан, — Взгляни на меня. У меня не бывает ни сомнений, ни сожалений. Всё, что я делаю, я делаю по собственному решению, и принимаю на себя всю полноту ответственности за это.
Самое простое действие, например, прогулка с тобой по пустыне, может означать для меня смерть. Смерть неуклонно идёт по моему следу. Поэтому места для сомнений и сожалений я оставить не могу. И если во время нашей с тобой прогулки мне предстоит умереть в пустыне, то я должен там умереть.
Ты же, в отличие от меня, ведёшь себя так, словно ты бессмертен, а бессмертный человек может позволить себе отменять свои решения, сожалеть о том, что он их принял, и в них сомневаться. В мире, где за каждым охотится смерть, приятель, нет времени на сожаления или сомнения. Время есть лишь на то, чтобы принимать решения.
Я был раздражён и подавлен больше, чем когда-либо до этого. Я сказал, что моё поведение — не его дело, и что не с его познаниями об этом судить, а он разразился грудным хохотом.
— Когда ты злишься, ты всегда чувствуешь, что прав!
— Да? — спросил он и по-птичьи моргнул.
Это было действительно так. Мне была свойственна тенденция всегда чувствовать праведность своего гнева.
— Давай не будем говорить о моем отце, — сказал я, изображая хорошее настроение, — поговорим лучше о растениях.
— Нет уж, давай поговорим о твоём отце, — настаивал дон Хуан. — Это как раз то, с чего нам сегодня следовало бы начать. Если ты думаешь, что был настолько сильнее его, то скажи, почему ты сам не ходил купаться в шесть утра и не вытаскивал его с собой?
Я ответил, что не мог поверить в то, что отец просил меня об этом всерьёз. Я всегда считал, что купание в шесть утра — это дело моего отца, а не моё.
Это было действительно так. Мне была свойственна тенденция всегда чувствовать праведность своего гнева.
— Давай не будем говорить о моем отце, — сказал я, изображая хорошее настроение, — поговорим лучше о растениях.
— Нет уж, давай поговорим о твоём отце, — настаивал дон Хуан. — Это как раз то, с чего нам сегодня следовало бы начать. Если ты думаешь, что был настолько сильнее его, то скажи, почему ты сам не ходил купаться в шесть утра и не вытаскивал его с собой?
Я ответил, что не мог поверить в то, что отец просил меня об этом всерьёз. Я всегда считал, что купание в шесть утра — это дело моего отца, а не моё.
— С того момента, как ты принял его идею, это стало также и твоим делом!
Резко сказал дон Хуан.
— Ты совершал гораздо более неприглядные поступки в своём доме, — провозгласил он, как судья, выносящий приговор. — Единственное, чего ты так и не совершил — ты не возжёг огонь собственного духа!
Сила этих его слов была столь сокрушительной, что они, словно эхо, отозвались в моём сознании. Он опрокинул все мои щиты. Я был не в состоянии с ним спорить. Чтобы как-то защититься, я кинулся записывать.
В последней слабой попытке объясниться я сказал, что всю жизнь мне почему-то приходится иметь дело с людьми вроде моего отца, которые, подобно ему, бросали мне наживку в виде своих заманчивых планов, а в итоге я всегда оказывался не у дел.
— Ты жалуешься, — мягко произнёс дон Хуан. — Ты жаловался всю свою жизнь, потому что не привык принимать ответственность за свои решения. Если бы ты согласился с решением твоего отца каждое утро в шесть часов ходить купаться, ты пошёл бы самостоятельно, если бы понадобилось, или послал бы отца к чёрту, едва он заикнулся бы на эту тему после того, как ты понял, чего стоят все эти разговоры. Но ты ничего ему не сказал. Так что ты был так же слаб, как твой отец.
— Ты совершал гораздо более неприглядные поступки в своём доме, — провозгласил он, как судья, выносящий приговор. — Единственное, чего ты так и не совершил — ты не возжёг огонь собственного духа!
Сила этих его слов была столь сокрушительной, что они, словно эхо, отозвались в моём сознании. Он опрокинул все мои щиты. Я был не в состоянии с ним спорить. Чтобы как-то защититься, я кинулся записывать.
В последней слабой попытке объясниться я сказал, что всю жизнь мне почему-то приходится иметь дело с людьми вроде моего отца, которые, подобно ему, бросали мне наживку в виде своих заманчивых планов, а в итоге я всегда оказывался не у дел.
— Ты жалуешься, — мягко произнёс дон Хуан. — Ты жаловался всю свою жизнь, потому что не привык принимать ответственность за свои решения. Если бы ты согласился с решением твоего отца каждое утро в шесть часов ходить купаться, ты пошёл бы самостоятельно, если бы понадобилось, или послал бы отца к чёрту, едва он заикнулся бы на эту тему после того, как ты понял, чего стоят все эти разговоры. Но ты ничего ему не сказал. Так что ты был так же слаб, как твой отец.
Принять на себя ответственность за свои решения — это значит быть готовым умереть за них!
— Разве ты не понимаешь? В мире, где за каждым охотится смерть, не может быть маленьких или больших решений. Здесь есть лишь решения, которые мы принимаем перед лицом своей неминуемой смерти.
Я не мог сказать ничего. Прошло не менее часа. Дон Хуан совершенно неподвижно лежал на своей циновке. Но он не спал.
— Почему ты мне всё это рассказываешь, дон Хуан? — спросил я. — Почему ты делаешь всё это со мной?
— Ты пришёл ко мне, — ответил он. — Вернее, ты был ко мне приведён. И я за тебя взялся.
— Прошу прощения?..
— Ты мог бы взяться за своего отца, если бы стал ради него купаться по утрам. Но ты не сделал этого, наверно, потому что был слишком молод.
Я прожил больше тебя. Надо мной ничего не висит. В моей жизни нет спешки, поэтому я могу как следует за тебя взяться.
Я не мог сказать ничего. Прошло не менее часа. Дон Хуан совершенно неподвижно лежал на своей циновке. Но он не спал.
— Почему ты мне всё это рассказываешь, дон Хуан? — спросил я. — Почему ты делаешь всё это со мной?
— Ты пришёл ко мне, — ответил он. — Вернее, ты был ко мне приведён. И я за тебя взялся.
— Прошу прощения?..
— Ты мог бы взяться за своего отца, если бы стал ради него купаться по утрам. Но ты не сделал этого, наверно, потому что был слишком молод.
Я прожил больше тебя. Надо мной ничего не висит. В моей жизни нет спешки, поэтому я могу как следует за тебя взяться.
Глава 6. Стать охотником
После довольно длительной паузы дон Хуан неожиданно повернулся ко мне и сказал, что найти подходящее место для отдыха просто:
нужно всего лишь свести к переносице глаза
Он заговорщицки подмигнул мне и доверительным тоном сказал, что именно так я и поступил, когда катался ночью по земле, и благодаря этому смог найти оба места – хорошее и плохое – и увидеть соответствующие им цвета.
Дон Хуан признался в том, что моя удача произвела на него сильное впечатление.
— Но я, честное слово, не знаю, как это у меня получилось, — сказал я.
— Ты свёл глаза, — выразительно произнёс он. — Это — технический приём, ты должен был его применить, хотя можешь об этом и не помнить.
Затем дон Хуан подробно описал этот приём. Он сказал, что на его отработку могут уйти годы. Заключается он в том, чтобы
Дон Хуан признался в том, что моя удача произвела на него сильное впечатление.
— Но я, честное слово, не знаю, как это у меня получилось, — сказал я.
— Ты свёл глаза, — выразительно произнёс он. — Это — технический приём, ты должен был его применить, хотя можешь об этом и не помнить.
Затем дон Хуан подробно описал этот приём. Он сказал, что на его отработку могут уйти годы. Заключается он в том, чтобы
постепенно, сводя глаза к переносице, заставить их воспринимать одно и то же изображение по отдельности
Из-за несовпадения изображений возникает раздвоение зрительного восприятия мира, благодаря которому, по словам дона Хуана, человек может отмечать изменения в окружающей обстановке, которых в обычном режиме восприятия глаза попросту не замечают.
Дон Хуан предложил мне попробовать, заверив, что зрению это не повредит. Он сказал, что начинать следует с коротких взглядов почти самыми уголками глаз, а затем показал мне как это делается, выбрав большой куст.
Когда я смотрел на глаза дона Хуана, бросавшие непостижимо быстрые взгляды на куст, у меня возникло странное ощущение. Они напомнили мне бегающие глазки животного, которое не может постоянно смотреть прямо перед собой.
Мы шли ещё примерно час, в течение которого я пытался ни на чем не фокусировать взгляд. Затем дон Хуан велел мне смотреть раздельно, изолированно воспринимая изображения, видимые каждым глазом. Ещё через час у меня ужасно разболелась голова, и нам пришлось остановиться.
— Как думаешь, сможешь ты сам найти подходящее место для привала? — спросил дон Хуан.
Я не имел понятия, по какому критерию судить о том, является место «подходящим» или нет. Он терпеливо объяснил, что, бросая на окружающий мир быстрые взгляды, можно увидеть необыкновенные явления.
— Какого типа? — спросил я.
— Это явления, которые мы не столько видим, сколько чувствуем, — уточнил дон Хуан. — Они больше похожи на ощущения, чем на зрительные образы. Если ты посмотришь таким способом на дерево или скалу, под которыми тебе хотелось бы отдохнуть, глаза помогут тебе ощутить, является ли выбранное место наиболее удачным для привала.
Дон Хуан предложил мне попробовать, заверив, что зрению это не повредит. Он сказал, что начинать следует с коротких взглядов почти самыми уголками глаз, а затем показал мне как это делается, выбрав большой куст.
Когда я смотрел на глаза дона Хуана, бросавшие непостижимо быстрые взгляды на куст, у меня возникло странное ощущение. Они напомнили мне бегающие глазки животного, которое не может постоянно смотреть прямо перед собой.
Мы шли ещё примерно час, в течение которого я пытался ни на чем не фокусировать взгляд. Затем дон Хуан велел мне смотреть раздельно, изолированно воспринимая изображения, видимые каждым глазом. Ещё через час у меня ужасно разболелась голова, и нам пришлось остановиться.
— Как думаешь, сможешь ты сам найти подходящее место для привала? — спросил дон Хуан.
Я не имел понятия, по какому критерию судить о том, является место «подходящим» или нет. Он терпеливо объяснил, что, бросая на окружающий мир быстрые взгляды, можно увидеть необыкновенные явления.
— Какого типа? — спросил я.
— Это явления, которые мы не столько видим, сколько чувствуем, — уточнил дон Хуан. — Они больше похожи на ощущения, чем на зрительные образы. Если ты посмотришь таким способом на дерево или скалу, под которыми тебе хотелось бы отдохнуть, глаза помогут тебе ощутить, является ли выбранное место наиболее удачным для привала.
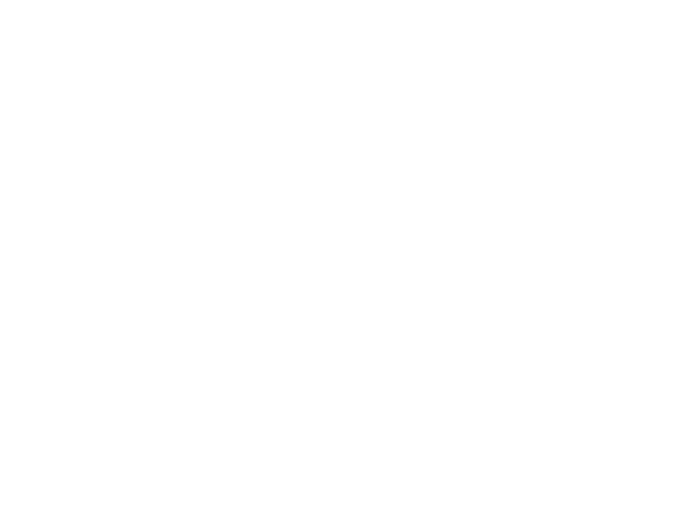
— Весь фокус в том, чтобы научиться чувствовать глазами, — объяснил дон Хуан. — Ты не знаешь, что именно чувствовать, и в этом — твоя проблема. Но с практикой это придёт.
— Может быть, ты расскажешь мне, что я должен чувствовать? — спросил я.
— Это невозможно.
— Почему?
— Никто не сможет тебе сказать, что в этом случае человек чувствует. Это — не тепло, не свет, не сверкание, не цвет… Это ни на что не похоже.
— И ты не можешь этого описать?
— Нет. Я могу только обучить тебя техническим приёмам. Когда ты научишься разделять изображения и воспринимать все в раздвоенном виде, ты должен будешь сосредоточить внимание на пространстве между этими двумя изображениями. Любое заслуживающее внимания изменение произойдёт именно в этой области.
— Об изменениях какого типа ты говоришь?
— Это не важно. Важно ощущение, которое у тебя при этом возникнет. Сегодня ты увидел сверкание, но это ничего не значило, потому что отсутствовало ощущение. Что и как ощущать, я тебе объяснить не могу. Ты должен узнать это сам.
— Может быть, ты расскажешь мне, что я должен чувствовать? — спросил я.
— Это невозможно.
— Почему?
— Никто не сможет тебе сказать, что в этом случае человек чувствует. Это — не тепло, не свет, не сверкание, не цвет… Это ни на что не похоже.
— И ты не можешь этого описать?
— Нет. Я могу только обучить тебя техническим приёмам. Когда ты научишься разделять изображения и воспринимать все в раздвоенном виде, ты должен будешь сосредоточить внимание на пространстве между этими двумя изображениями. Любое заслуживающее внимания изменение произойдёт именно в этой области.
— Об изменениях какого типа ты говоришь?
— Это не важно. Важно ощущение, которое у тебя при этом возникнет. Сегодня ты увидел сверкание, но это ничего не значило, потому что отсутствовало ощущение. Что и как ощущать, я тебе объяснить не могу. Ты должен узнать это сам.
«Стать охотником» звучало заманчиво и романтично, но с моей точки зрения это было абсурдным, потому что охота лично меня ни в коей мере не интересовала. Я сказал ему об этом.
— Вовсе не обязательно, чтобы охота тебя интересовала или нравилась тебе, — сказал он. — Ты обладаешь естественной склонностью. Я думаю, что
— Вовсе не обязательно, чтобы охота тебя интересовала или нравилась тебе, — сказал он. — Ты обладаешь естественной склонностью. Я думаю, что
настоящие охотники никогда не любят охотиться — они просто хорошо это делают, вот и всё
— Охотник должен быть очень жёстким, — продолжил дон Хуан,
— Охотник ничего не предоставляет случаю
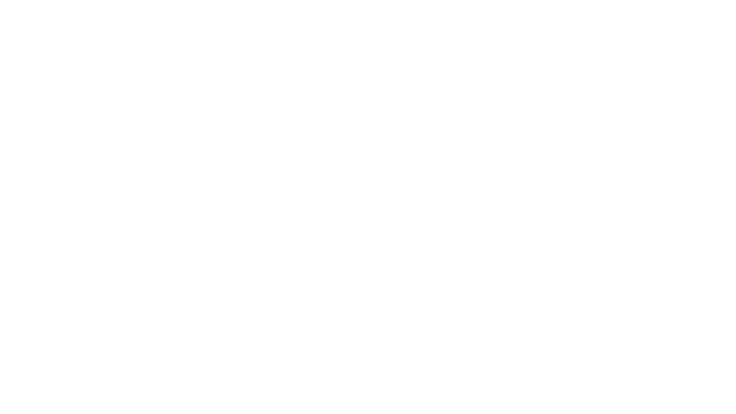
— Зачем ты со мной все это проделываешь, дон Хуан?
Он снял шляпу и с наигранным недоумением почесал виски.
— Я тобой занимаюсь, — мягко ответил он. — Раньше подобным образом мною занимались другие, и когда-нибудь ты сам кем-то займёшься. Скажем так: сейчас — моя очередь.
Однажды я обнаружил, что, если я хочу быть охотником, который мог бы уважать себя, мне необходимо изменить свой образ жизни. До этого я все время жаловался и распускал нюни. У меня были веские причины, чтобы чувствовать себя обделённым и обманутым жизнью. Я — индеец, а с индейцами обращаются хуже, чем с собаками. Я не мог этого изменить, и поэтому мне не оставалось ничего, кроме печали. Но удача повернулась ко мне лицом, и однажды в моей жизни появился тот, кто научил меня охотиться.
Он снял шляпу и с наигранным недоумением почесал виски.
— Я тобой занимаюсь, — мягко ответил он. — Раньше подобным образом мною занимались другие, и когда-нибудь ты сам кем-то займёшься. Скажем так: сейчас — моя очередь.
Однажды я обнаружил, что, если я хочу быть охотником, который мог бы уважать себя, мне необходимо изменить свой образ жизни. До этого я все время жаловался и распускал нюни. У меня были веские причины, чтобы чувствовать себя обделённым и обманутым жизнью. Я — индеец, а с индейцами обращаются хуже, чем с собаками. Я не мог этого изменить, и поэтому мне не оставалось ничего, кроме печали. Но удача повернулась ко мне лицом, и однажды в моей жизни появился тот, кто научил меня охотиться.
И я осознал, что жизнь, которую я вёл, не стоит того, чтобы жить — поэтому я изменил её
— Но моя жизнь меня вполне устраивает, дон Хуан. С какой стати я должен её изменять?
Он принялся напевать мексиканскую песню, очень мягко, а потом просто замурлыкал мелодию, кивая в такт головой.
— Как ты думаешь, мы с тобой равны? — резко спросил он.
Вопрос застал меня врасплох. В ушах зазвенело, как будто он громко выкрикнул эти слова, хотя он не кричал. Однако в его голосе был какой-то металлический звук, который завибрировал в моих ушах.
Я почесал мизинцем внутри левого уха. Уши чесались, и в конце концов я принялся ритмично почёсывать их мизинцами обеих рук, движения мои при этом скорее напоминали подёргивания рук от плеч до кончиков мизинцев.
Дон Хуан с явным удовольствием наблюдал за моими действиями.
— Ну, равны мы? — переспросил он.
— Конечно, мы равны, дон Хуан, — ответил я.
Естественно, я оказывал ему некоторое снисхождение. Я относился к нему очень тепло, даже несмотря на то, что порою не знал, что с ним делать. Но всё же в глубине души я считал, хотя никогда и не говорил об этом вслух, что я — студент университета, человек из цивилизованного западного мира — стою выше старого индейца.
— Нет, — спокойно сказал он, — мы не равны.
— Ну почему же, равны, — возразил я.
— Нет, — произнёс он мягко. — Мы не равны. Я — охотник и воин, а ты — паразит.
У меня отвисла челюсть. Я не мог поверить в то, что дон Хуан действительно это сказал. Блокнот выпал у меня из рук, я тупо уставился на дона Хуана, а потом, конечно, пришёл в ярость.
Дон Хуан спокойно и собранно смотрел на меня. Я избегал его взгляда. А потом он заговорил. Он произносил слова очень чётко. Речь его лилась гладко и металлически бесстрастно. Он сказал, что я жалко и лицемерно веду себя по отношению ко всем. Что я отказываюсь вести собственные битвы, а вместо этого копаюсь в чужих проблемах и занимаюсь чужими битвами. Что я ничему не желаю учиться — ни знанию растений, ни охоте, ничему вообще. И что
Он принялся напевать мексиканскую песню, очень мягко, а потом просто замурлыкал мелодию, кивая в такт головой.
— Как ты думаешь, мы с тобой равны? — резко спросил он.
Вопрос застал меня врасплох. В ушах зазвенело, как будто он громко выкрикнул эти слова, хотя он не кричал. Однако в его голосе был какой-то металлический звук, который завибрировал в моих ушах.
Я почесал мизинцем внутри левого уха. Уши чесались, и в конце концов я принялся ритмично почёсывать их мизинцами обеих рук, движения мои при этом скорее напоминали подёргивания рук от плеч до кончиков мизинцев.
Дон Хуан с явным удовольствием наблюдал за моими действиями.
— Ну, равны мы? — переспросил он.
— Конечно, мы равны, дон Хуан, — ответил я.
Естественно, я оказывал ему некоторое снисхождение. Я относился к нему очень тепло, даже несмотря на то, что порою не знал, что с ним делать. Но всё же в глубине души я считал, хотя никогда и не говорил об этом вслух, что я — студент университета, человек из цивилизованного западного мира — стою выше старого индейца.
— Нет, — спокойно сказал он, — мы не равны.
— Ну почему же, равны, — возразил я.
— Нет, — произнёс он мягко. — Мы не равны. Я — охотник и воин, а ты — паразит.
У меня отвисла челюсть. Я не мог поверить в то, что дон Хуан действительно это сказал. Блокнот выпал у меня из рук, я тупо уставился на дона Хуана, а потом, конечно, пришёл в ярость.
Дон Хуан спокойно и собранно смотрел на меня. Я избегал его взгляда. А потом он заговорил. Он произносил слова очень чётко. Речь его лилась гладко и металлически бесстрастно. Он сказал, что я жалко и лицемерно веду себя по отношению ко всем. Что я отказываюсь вести собственные битвы, а вместо этого копаюсь в чужих проблемах и занимаюсь чужими битвами. Что я ничему не желаю учиться — ни знанию растений, ни охоте, ничему вообще. И что
его мир точных действий, чувств и решений неизмеримо более эффективен, чем тот бездарный разгильдяйский идиотизм, который я называю «моя жизнь»
Когда он закончил, я онемел. Он говорил без враждебности и без презрения, но с такой мощью и в то же время с таким спокойствием, что даже гнев мой как рукой сняло.
Мы молчали. Я был подавлен и не мог найти подходящих слов. Я ждал, что он первым нарушит молчание. Проходили часы. Дон Хуан постепенно становился все более и более неподвижным, пока, наконец, его тело не сделалось странно, почти пугающе застывшим.
Темнело, и силуэт его становился все менее различимым и в конце концов полностью слился с чернотой окружающих скал в кромешной тьме опустившейся ночи. Дон Хуан был настолько неподвижен, что его как бы вовсе не существовало.
Была уже полночь, когда я, наконец, осознал, что, если понадобится, он может вечно сохранять неподвижность среди камней в этой дикой ночной пустыне. Его мир точных действий, чувств и решений был действительно неизмеримо выше.
Я прикоснулся к его руке, и слезы хлынули у меня из глаз.
Мы молчали. Я был подавлен и не мог найти подходящих слов. Я ждал, что он первым нарушит молчание. Проходили часы. Дон Хуан постепенно становился все более и более неподвижным, пока, наконец, его тело не сделалось странно, почти пугающе застывшим.
Темнело, и силуэт его становился все менее различимым и в конце концов полностью слился с чернотой окружающих скал в кромешной тьме опустившейся ночи. Дон Хуан был настолько неподвижен, что его как бы вовсе не существовало.
Была уже полночь, когда я, наконец, осознал, что, если понадобится, он может вечно сохранять неподвижность среди камней в этой дикой ночной пустыне. Его мир точных действий, чувств и решений был действительно неизмеримо выше.
Я прикоснулся к его руке, и слезы хлынули у меня из глаз.
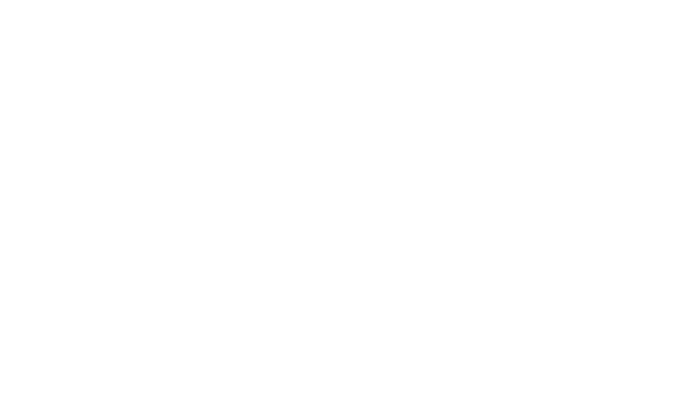
Глава 7. Стать недоступным
— Никогда я не могу понять, всерьёз ты говоришь или нет, — сказал я. Он изобразил нетерпение и причмокнул губами:
— У тебя какое-то странное представление о том, что значит говорить всерьёз. Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но всё, что я говорю, это совершенно серьёзно, даже если ты не понимаешь, о чём идёт речь. Почему мир должен быть таким, каким ты его считаешь? Кто дал тебе право так думать?
— Но ведь нет доказательств того, что он — не такой, — возразил я.
— Глупо верить в то, что мир именно таков, каким считаешь его ты, — сказал он.
— У тебя какое-то странное представление о том, что значит говорить всерьёз. Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но всё, что я говорю, это совершенно серьёзно, даже если ты не понимаешь, о чём идёт речь. Почему мир должен быть таким, каким ты его считаешь? Кто дал тебе право так думать?
— Но ведь нет доказательств того, что он — не такой, — возразил я.
— Глупо верить в то, что мир именно таков, каким считаешь его ты, — сказал он.
Этот мир — место, исполненное тайн
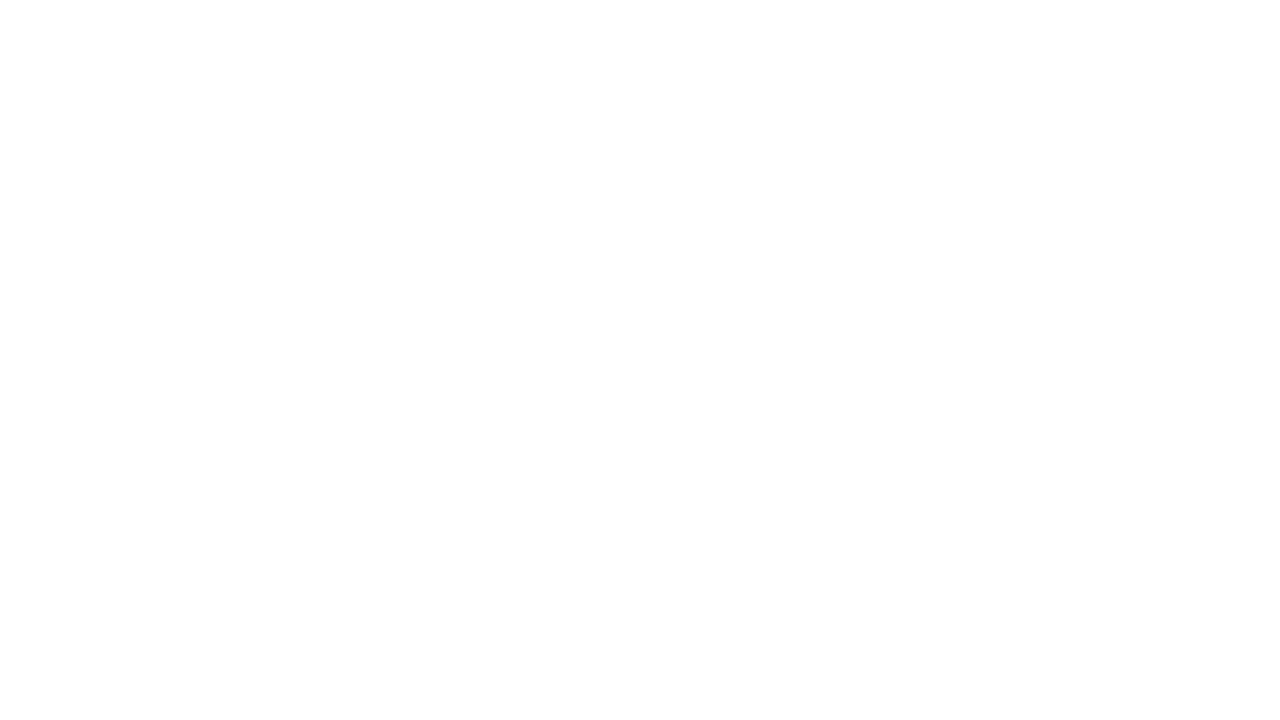
Вечером после еды мы с доном Хуаном устроились на площадке перед домом. Я уселся на «своём месте» и занялся заметками. Дон Хуан улёгся на спину, сложив на животе руки. Из-за «ветра» мы целый день не отходили от дома. Дон Хуан объяснил, что вчера мы намеренно побеспокоили силу, с которой лучше не шутить. Он даже заставил меня спать, укрывшись ветками.
Неожиданный порыв ветра заставил дона Хуана вскочить одним невероятно мощным прыжком.
— Вот чёрт! — воскликнул он. — Ветер ищет тебя.
— Не морочь голову, дон Хуан, — со смехом сказал я. — Меня на такое не купишь. В самом деле, нет.
Я не упрямился. Просто я никак не мог согласиться с тем, что ветер обладает собственной волей и может меня искать, равно как и с тем, что он на самом деле выслеживал нас и бросался к нам на вершину холма. Я сказал, что идея «ветра, обладающего волей» относится к очень примитивному мировоззрению.
— Хорошо, тогда что такое ветер? — вызывающе спросил дон Хуан.
Я терпеливо объяснил ему, что массы горячего и холодного воздуха создают различные давления, и, вследствие их разницы, воздух перемещается в горизонтальном и вертикальном направлениях. Я довольно долго посвящал дона Хуана в основы метеорологии.
— То есть ты хочешь сказать, что ветер — это лишь результат взаимодействия холодного и горячего воздуха? — спросил дон Хуан с заметным замешательством.
— Боюсь, что так, — ответил я, молча наслаждаясь своим триумфом. Дон Хуан, казалось, был ошарашен. Но потом он взглянул на меня и расхохотался.
— Все твои мнения — окончательны, — сказал он с ноткой сарказма в голосе. — Все они — последнее слово, верно? Но для охотника, однако, твоё мнение по поводу ветра — чистейший вздор. Нет никакой разницы, каким будет давление — единица, две или десять. Если бы ты жил среди дикой природы, ты бы знал: в сумерках ветер становится силой. Настоящий охотник знает это и действует соответственно.
— Как именно?
— Он использует сумерки и силу, скрытую в ветре. — Как?
— Если ему нужно, охотник прячется от силы, укрываясь ветками и лёжа неподвижно до тех пор, пока не кончатся сумерки. И сила окутывает его своей защитой.
Движениями рук дон Хуан изобразил, как именно сила окутывает охотника.
— Это похоже на …
Дон Хуан замолчал, подыскивая соответствующее слово.
— Кокон, — подсказал я.
— Точно, — согласился он. — Защита силы окутывает тебя подобно кокону. Охотник может спокойно оставаться на открытом месте, и ни пума, ни койот, ни ядовитый клоп его не потревожат. Горный лев может подойти к самому носу охотника и обнюхать его, но, если охотник останется неподвижным, лев уйдёт. Я могу тебе это гарантировать.
Если же охотник хочет стать заметным, ему нужно всего лишь подняться в сумерках на вершину холма. Сила зацепится за него и будет следовать за ним всю ночь. Поэтому, если охотник хочет совершить ночной переход, или если ему необходимо всю ночь бодрствовать, он должен стать доступным ветру.
Неожиданный порыв ветра заставил дона Хуана вскочить одним невероятно мощным прыжком.
— Вот чёрт! — воскликнул он. — Ветер ищет тебя.
— Не морочь голову, дон Хуан, — со смехом сказал я. — Меня на такое не купишь. В самом деле, нет.
Я не упрямился. Просто я никак не мог согласиться с тем, что ветер обладает собственной волей и может меня искать, равно как и с тем, что он на самом деле выслеживал нас и бросался к нам на вершину холма. Я сказал, что идея «ветра, обладающего волей» относится к очень примитивному мировоззрению.
— Хорошо, тогда что такое ветер? — вызывающе спросил дон Хуан.
Я терпеливо объяснил ему, что массы горячего и холодного воздуха создают различные давления, и, вследствие их разницы, воздух перемещается в горизонтальном и вертикальном направлениях. Я довольно долго посвящал дона Хуана в основы метеорологии.
— То есть ты хочешь сказать, что ветер — это лишь результат взаимодействия холодного и горячего воздуха? — спросил дон Хуан с заметным замешательством.
— Боюсь, что так, — ответил я, молча наслаждаясь своим триумфом. Дон Хуан, казалось, был ошарашен. Но потом он взглянул на меня и расхохотался.
— Все твои мнения — окончательны, — сказал он с ноткой сарказма в голосе. — Все они — последнее слово, верно? Но для охотника, однако, твоё мнение по поводу ветра — чистейший вздор. Нет никакой разницы, каким будет давление — единица, две или десять. Если бы ты жил среди дикой природы, ты бы знал: в сумерках ветер становится силой. Настоящий охотник знает это и действует соответственно.
— Как именно?
— Он использует сумерки и силу, скрытую в ветре. — Как?
— Если ему нужно, охотник прячется от силы, укрываясь ветками и лёжа неподвижно до тех пор, пока не кончатся сумерки. И сила окутывает его своей защитой.
Движениями рук дон Хуан изобразил, как именно сила окутывает охотника.
— Это похоже на …
Дон Хуан замолчал, подыскивая соответствующее слово.
— Кокон, — подсказал я.
— Точно, — согласился он. — Защита силы окутывает тебя подобно кокону. Охотник может спокойно оставаться на открытом месте, и ни пума, ни койот, ни ядовитый клоп его не потревожат. Горный лев может подойти к самому носу охотника и обнюхать его, но, если охотник останется неподвижным, лев уйдёт. Я могу тебе это гарантировать.
Если же охотник хочет стать заметным, ему нужно всего лишь подняться в сумерках на вершину холма. Сила зацепится за него и будет следовать за ним всю ночь. Поэтому, если охотник хочет совершить ночной переход, или если ему необходимо всю ночь бодрствовать, он должен стать доступным ветру.
Секрет великих охотников состоит в смене доступности и недоступности точно на соответствующих поворотах пути
Чувствуя, что несколько сбит с толку, я попросил его вкратце повторить всё, что он сказал.
— Ты должен научиться сознательно становиться доступным и недоступным, — сказал он. — Хочешь ты этого или нет, но при твоём нынешнем образе жизни ты все время остаёшься доступным. Ты всегда открыт.
Я запротестовал. Я чувствовал, что моя жизнь становится все более и более скрытной. Он сказал, что я его не понял. Быть недоступным вовсе не значит прятаться или быть скрытным. Это значит — быть недостижимым, то есть закрытым и защищённым.
— Давай скажем иначе, — терпеливо продолжал он. — Нет никакой разницы в том, прячешься ты или нет, если каждый знает, что ты прячешься. Из этого вытекают все твои нынешние проблемы. Когда ты прячешься, то об этом знают все; ты открыт и доступен, и каждый может в тебя чем угодно ткнуть.
Я почувствовал какую-то угрозу и поспешно попытался защититься.
— Не нужно оправдываться, — сухо сказал дон Хуан. — В этом нет никакой нужды. Все мы — дураки, и ты не можешь быть другим. Когда-то я тоже, подобно тебе, был доступен и раскрывался снова и снова до тех пор, пока от меня почти ничего не осталось. А то, что осталось, могло только ныть. Что я и делал, так же как ты.
Дон Хуан смерил меня взглядом и громко вздохнул.
— Я, правда, был тогда моложе тебя, — продолжал он, — но в один прекрасный день я почувствовал, что с меня довольно, и изменился. Скажем так: однажды, когда я сделался охотником, я постиг секрет смены доступности и недоступности.
Я сказал, что до меня все равно не доходит то, что он хочет сказать. Я действительно никак не мог понять, что он имеет в виду, говоря «быть доступным». Он использовал испанские идиоматические выражения «ponerse al alcance» и «ponerse en el medio del camino» — «быть в пределах досягаемости» и «находиться посреди оживлённой улицы».
— Ты должен оттуда убраться, — объяснил он. — Уйти с середины улицы, на которой полно машин и прохожих. Ты весь — там, всем своим существом, поэтому не имеет никакого значения, прячешься ты или нет. Прятаться там бессмысленно, ты только можешь воображать, что спрятался. Ты находишься посреди улицы; это значит, что каждый, кто по ней проходит или проезжает, видит, как ты бродишь там туда-сюда.
Метафора была интересной и в то же время весьма туманной.
— Ты говоришь загадками, — сказал я.
Он довольно долго не мигая смотрел на меня, а потом замурлыкал мексиканскую мелодию. Я выпрямил спину и насторожился, потому что уже знал — эта мелодия означает, что сейчас он меня снова на чем-нибудь поймает.
— Эй, — сказал он, улыбнувшись и вытаращившись на меня. — Слушай, а что с той блондинкой, твоей подружкой? Ну, той, которая тебе по-настоящему нравилась.
Я уставился на него. Должно быть, у меня был вид полнейшего идиота. Он засмеялся с явным удовольствием. У меня не было слов.
— Ты мне сам о ней рассказывал, — сказал дон Хуан, словно затем, чтобы несколько меня подбодрить.
Но я не помнил, чтобы когда-либо рассказывал ему о ком-то из своих друзей, тем более о белокурой девушке.
— Никогда ни о чем подобном я тебе не рассказывал, — сказал я.
— Ну как же не рассказывал, если рассказывал, — возразил он, как бы подводя итог спору.
Я хотел было возразить, но он не дал, сказав, что то, откуда он о ней узнал, не имеет значения, а важно лишь то, что я действительно её любил. На меня накатила волна враждебности к нему из-за того, что он лезет мне в самую душу.
— Только не надо хорохориться, — сказал дон Хуан сухо. — С чувством собственной важности уже давно пора покончить. У тебя была женщина, очень дорогой тебе человек. И ты её потерял.
Я начал вспоминать, действительно ли я когда-нибудь говорил с доном Хуаном об этом. В конце концов я пришёл к выводу, что это было вряд ли возможно. Хотя всё же я мог что-то рассказать ему, когда мы ехали в машине. Я не помнил всего, о чем мы говорили во время совместных поездок, потому что, сидя за рулём, не мог записывать. Эта мысль в какой-то степени меня успокоила. Я сказал ему, что он прав. В моей жизни действительно была белокурая девушка, и отношения с ней действительно имели для меня огромное значение.
— Почему сейчас она не с тобой? — спросил дон Хуан.
— Она ушла от меня.
— Почему?
— По многим причинам.
— Причин было не так уж много. Причина была одна — ты сделался слишком доступным.
Я искренне хотел понять, что он имеет в виду. Ему в очередной раз удалось меня здорово зацепить. Он, похоже, отлично отдавал себе в этом отчёт и, чтобы скрыть предательскую улыбку, выпятил губы.
— О ваших отношениях знали все вокруг, — сказал он с непоколебимой уверенностью.
— А что в этом плохого?
— Это очень плохо, просто ужасно. Ведь она была прекрасным человеком.
Я искренне заявил, что его манера гадать о том, о чем он не может иметь ни малейшего понятия, мне отвратительна, и что самое неприятное в этом то, что он говорит с такой уверенностью, словно видел всё собственными глазами.
— Но всё, что я говорю, — правда, — сказал дон Хуан с обезоруживающей прямотой. — Я видел всё это. Она была очень тонкой личностью.
Я знал, что спорить не имеет смысла, но очень разозлился на него за то, что он разбередил самую глубокую из моих ран. Поэтому я сказал, что, в конце концов, та девушка была не такой уж тонкой личностью, и что, по моему мнению, она была личностью довольно слабой.
— Как и ты, — спокойно произнёс дон Хуан. — Но это — не важно. Значение имеет лишь то, что ты её повсюду искал. Это делает её особым человеком в твоей жизни.
— Ты должен научиться сознательно становиться доступным и недоступным, — сказал он. — Хочешь ты этого или нет, но при твоём нынешнем образе жизни ты все время остаёшься доступным. Ты всегда открыт.
Я запротестовал. Я чувствовал, что моя жизнь становится все более и более скрытной. Он сказал, что я его не понял. Быть недоступным вовсе не значит прятаться или быть скрытным. Это значит — быть недостижимым, то есть закрытым и защищённым.
— Давай скажем иначе, — терпеливо продолжал он. — Нет никакой разницы в том, прячешься ты или нет, если каждый знает, что ты прячешься. Из этого вытекают все твои нынешние проблемы. Когда ты прячешься, то об этом знают все; ты открыт и доступен, и каждый может в тебя чем угодно ткнуть.
Я почувствовал какую-то угрозу и поспешно попытался защититься.
— Не нужно оправдываться, — сухо сказал дон Хуан. — В этом нет никакой нужды. Все мы — дураки, и ты не можешь быть другим. Когда-то я тоже, подобно тебе, был доступен и раскрывался снова и снова до тех пор, пока от меня почти ничего не осталось. А то, что осталось, могло только ныть. Что я и делал, так же как ты.
Дон Хуан смерил меня взглядом и громко вздохнул.
— Я, правда, был тогда моложе тебя, — продолжал он, — но в один прекрасный день я почувствовал, что с меня довольно, и изменился. Скажем так: однажды, когда я сделался охотником, я постиг секрет смены доступности и недоступности.
Я сказал, что до меня все равно не доходит то, что он хочет сказать. Я действительно никак не мог понять, что он имеет в виду, говоря «быть доступным». Он использовал испанские идиоматические выражения «ponerse al alcance» и «ponerse en el medio del camino» — «быть в пределах досягаемости» и «находиться посреди оживлённой улицы».
— Ты должен оттуда убраться, — объяснил он. — Уйти с середины улицы, на которой полно машин и прохожих. Ты весь — там, всем своим существом, поэтому не имеет никакого значения, прячешься ты или нет. Прятаться там бессмысленно, ты только можешь воображать, что спрятался. Ты находишься посреди улицы; это значит, что каждый, кто по ней проходит или проезжает, видит, как ты бродишь там туда-сюда.
Метафора была интересной и в то же время весьма туманной.
— Ты говоришь загадками, — сказал я.
Он довольно долго не мигая смотрел на меня, а потом замурлыкал мексиканскую мелодию. Я выпрямил спину и насторожился, потому что уже знал — эта мелодия означает, что сейчас он меня снова на чем-нибудь поймает.
— Эй, — сказал он, улыбнувшись и вытаращившись на меня. — Слушай, а что с той блондинкой, твоей подружкой? Ну, той, которая тебе по-настоящему нравилась.
Я уставился на него. Должно быть, у меня был вид полнейшего идиота. Он засмеялся с явным удовольствием. У меня не было слов.
— Ты мне сам о ней рассказывал, — сказал дон Хуан, словно затем, чтобы несколько меня подбодрить.
Но я не помнил, чтобы когда-либо рассказывал ему о ком-то из своих друзей, тем более о белокурой девушке.
— Никогда ни о чем подобном я тебе не рассказывал, — сказал я.
— Ну как же не рассказывал, если рассказывал, — возразил он, как бы подводя итог спору.
Я хотел было возразить, но он не дал, сказав, что то, откуда он о ней узнал, не имеет значения, а важно лишь то, что я действительно её любил. На меня накатила волна враждебности к нему из-за того, что он лезет мне в самую душу.
— Только не надо хорохориться, — сказал дон Хуан сухо. — С чувством собственной важности уже давно пора покончить. У тебя была женщина, очень дорогой тебе человек. И ты её потерял.
Я начал вспоминать, действительно ли я когда-нибудь говорил с доном Хуаном об этом. В конце концов я пришёл к выводу, что это было вряд ли возможно. Хотя всё же я мог что-то рассказать ему, когда мы ехали в машине. Я не помнил всего, о чем мы говорили во время совместных поездок, потому что, сидя за рулём, не мог записывать. Эта мысль в какой-то степени меня успокоила. Я сказал ему, что он прав. В моей жизни действительно была белокурая девушка, и отношения с ней действительно имели для меня огромное значение.
— Почему сейчас она не с тобой? — спросил дон Хуан.
— Она ушла от меня.
— Почему?
— По многим причинам.
— Причин было не так уж много. Причина была одна — ты сделался слишком доступным.
Я искренне хотел понять, что он имеет в виду. Ему в очередной раз удалось меня здорово зацепить. Он, похоже, отлично отдавал себе в этом отчёт и, чтобы скрыть предательскую улыбку, выпятил губы.
— О ваших отношениях знали все вокруг, — сказал он с непоколебимой уверенностью.
— А что в этом плохого?
— Это очень плохо, просто ужасно. Ведь она была прекрасным человеком.
Я искренне заявил, что его манера гадать о том, о чем он не может иметь ни малейшего понятия, мне отвратительна, и что самое неприятное в этом то, что он говорит с такой уверенностью, словно видел всё собственными глазами.
— Но всё, что я говорю, — правда, — сказал дон Хуан с обезоруживающей прямотой. — Я видел всё это. Она была очень тонкой личностью.
Я знал, что спорить не имеет смысла, но очень разозлился на него за то, что он разбередил самую глубокую из моих ран. Поэтому я сказал, что, в конце концов, та девушка была не такой уж тонкой личностью, и что, по моему мнению, она была личностью довольно слабой.
— Как и ты, — спокойно произнёс дон Хуан. — Но это — не важно. Значение имеет лишь то, что ты её повсюду искал. Это делает её особым человеком в твоей жизни.
Для особых людей у нас должны быть только хорошие слова
Я был подавлен. Глубокая печаль начала охватывать меня.
— Что ты со мной делаешь, дон Хуан? — спросил я. — Тебе каждый раз удаётся вогнать меня в печаль. Почему?
— А сейчас ты потворствуешь своей сентиментальности, — с укором сказал он.
— Но в чем тут дело, дон Хуан?
— Дело в доступности, — провозгласил он. — Я напомнил тебе о той девушке только затем, чтобы непосредственно показать то, чего не смог показать посредством ветра. Ты потерял её, потому что был доступен; ты всегда находился в пределах её досягаемости, и твоя жизнь была подчинена строгому распорядку.
— Нет! — возразил я. — Ты не прав. В моей жизни никогда не было распорядка.
— Был и есть, — с догматической убеждённостью заявил он. — Это — распорядок необычный, поэтому складывается впечатление, что его нет. Но я уверяю тебя, он есть.
Я собрался было надуться и погрузиться в мрачное расположение духа, но что-то в его глазах не давало мне покоя, его взгляд словно бы все время куда-то меня подталкивал.
— Искусство охотника заключается в том, чтобы сделаться недостижимым, — сказал дон Хуан. — В случае с белокурой девушкой это означало бы, что ты должен был стать охотником и встречаться с ней осторожно, бережно. А не так, как ты это делал. Ты оставался с ней изо дня в день до тех пор, пока не истощились все чувства, кроме одного — скуки. Верно?
Я не ответил. Да ответа и не требовалось. Он был прав.
— Быть недостижимым — значит бережно прикасаться к окружающему миру. Съесть не пять перепелов, а одного. Не калечить растения лишь для того, чтобы сделать жаровню. Не подставляться без необходимости силе ветра. Не пользоваться людьми, не выжимать из них все до последней капли, особенно из тех, кого любишь.
— Но я никогда никем не пользовался, — вставил я.
Но дон Хуан сказал, что пользовался, и потому теперь могу только тупо твердить, что устал от них и что они нагоняют на меня тоску.
— Быть недоступным — значит сознательно избегать истощения, бережно относясь и к себе, и к другим, — продолжал он. — Это значит, что ты не поддаёшься голоду и отчаянию, как несчастный дегенерат, который боится, что не сможет поесть больше никогда в жизни, и потому пожирает без остатка всё, что попадается на пути, всех пятерых перепелов!
Дон Хуан определённо бил ниже пояса. Я засмеялся, и это, похоже, ему понравилось. Он слегка дотронулся до моей спины.
— Охотник знает, что в его ловушки ещё не раз попадёт дичь, поэтому он не беспокоится. Беспокойство неизбежно делает человека доступным, он непроизвольно раскрывается.
— Что ты со мной делаешь, дон Хуан? — спросил я. — Тебе каждый раз удаётся вогнать меня в печаль. Почему?
— А сейчас ты потворствуешь своей сентиментальности, — с укором сказал он.
— Но в чем тут дело, дон Хуан?
— Дело в доступности, — провозгласил он. — Я напомнил тебе о той девушке только затем, чтобы непосредственно показать то, чего не смог показать посредством ветра. Ты потерял её, потому что был доступен; ты всегда находился в пределах её досягаемости, и твоя жизнь была подчинена строгому распорядку.
— Нет! — возразил я. — Ты не прав. В моей жизни никогда не было распорядка.
— Был и есть, — с догматической убеждённостью заявил он. — Это — распорядок необычный, поэтому складывается впечатление, что его нет. Но я уверяю тебя, он есть.
Я собрался было надуться и погрузиться в мрачное расположение духа, но что-то в его глазах не давало мне покоя, его взгляд словно бы все время куда-то меня подталкивал.
— Искусство охотника заключается в том, чтобы сделаться недостижимым, — сказал дон Хуан. — В случае с белокурой девушкой это означало бы, что ты должен был стать охотником и встречаться с ней осторожно, бережно. А не так, как ты это делал. Ты оставался с ней изо дня в день до тех пор, пока не истощились все чувства, кроме одного — скуки. Верно?
Я не ответил. Да ответа и не требовалось. Он был прав.
— Быть недостижимым — значит бережно прикасаться к окружающему миру. Съесть не пять перепелов, а одного. Не калечить растения лишь для того, чтобы сделать жаровню. Не подставляться без необходимости силе ветра. Не пользоваться людьми, не выжимать из них все до последней капли, особенно из тех, кого любишь.
— Но я никогда никем не пользовался, — вставил я.
Но дон Хуан сказал, что пользовался, и потому теперь могу только тупо твердить, что устал от них и что они нагоняют на меня тоску.
— Быть недоступным — значит сознательно избегать истощения, бережно относясь и к себе, и к другим, — продолжал он. — Это значит, что ты не поддаёшься голоду и отчаянию, как несчастный дегенерат, который боится, что не сможет поесть больше никогда в жизни, и потому пожирает без остатка всё, что попадается на пути, всех пятерых перепелов!
Дон Хуан определённо бил ниже пояса. Я засмеялся, и это, похоже, ему понравилось. Он слегка дотронулся до моей спины.
— Охотник знает, что в его ловушки ещё не раз попадёт дичь, поэтому он не беспокоится. Беспокойство неизбежно делает человека доступным, он непроизвольно раскрывается.
Тревога заставляет человека в отчаянии цепляться за что попало, а зацепившись, он уже обязан истощить либо себя, либо то, за что зацепился
Я сказал, что в моей жизни быть недостижимым невозможно, потому что мне постоянно приходится иметь дело с множеством людей и быть в пределах досягаемости каждого из них.
— Я уже тебе говорил, — спокойно продолжал дон Хуан, — что быть недостижимым — вовсе не означает прятаться или скрытничать. И не означает, что нельзя иметь дело с людьми. Охотник обращается со своим миром очень осторожно и нежно, и не важно, мир ли это вещей, растений, животных, людей или мир силы. Охотник находится в очень тесном контакте со своим миром и, тем не менее, он для этого мира недоступен.
— Но тут у тебя явное противоречие, — возразил я. — Невозможно быть недоступным для мира, в котором находишься постоянно, час за часом, день за днём.
— Ты не понял, — терпеливо объяснил дон Хуан.
— Я уже тебе говорил, — спокойно продолжал дон Хуан, — что быть недостижимым — вовсе не означает прятаться или скрытничать. И не означает, что нельзя иметь дело с людьми. Охотник обращается со своим миром очень осторожно и нежно, и не важно, мир ли это вещей, растений, животных, людей или мир силы. Охотник находится в очень тесном контакте со своим миром и, тем не менее, он для этого мира недоступен.
— Но тут у тебя явное противоречие, — возразил я. — Невозможно быть недоступным для мира, в котором находишься постоянно, час за часом, день за днём.
— Ты не понял, — терпеливо объяснил дон Хуан.
Охотник недоступен, потому что не выжимает из своего мира всё до последней капли. Он слегка касается его, оставаясь в нём ровно столько, сколько необходимо, и затем быстро уходит, не оставляя никаких следов
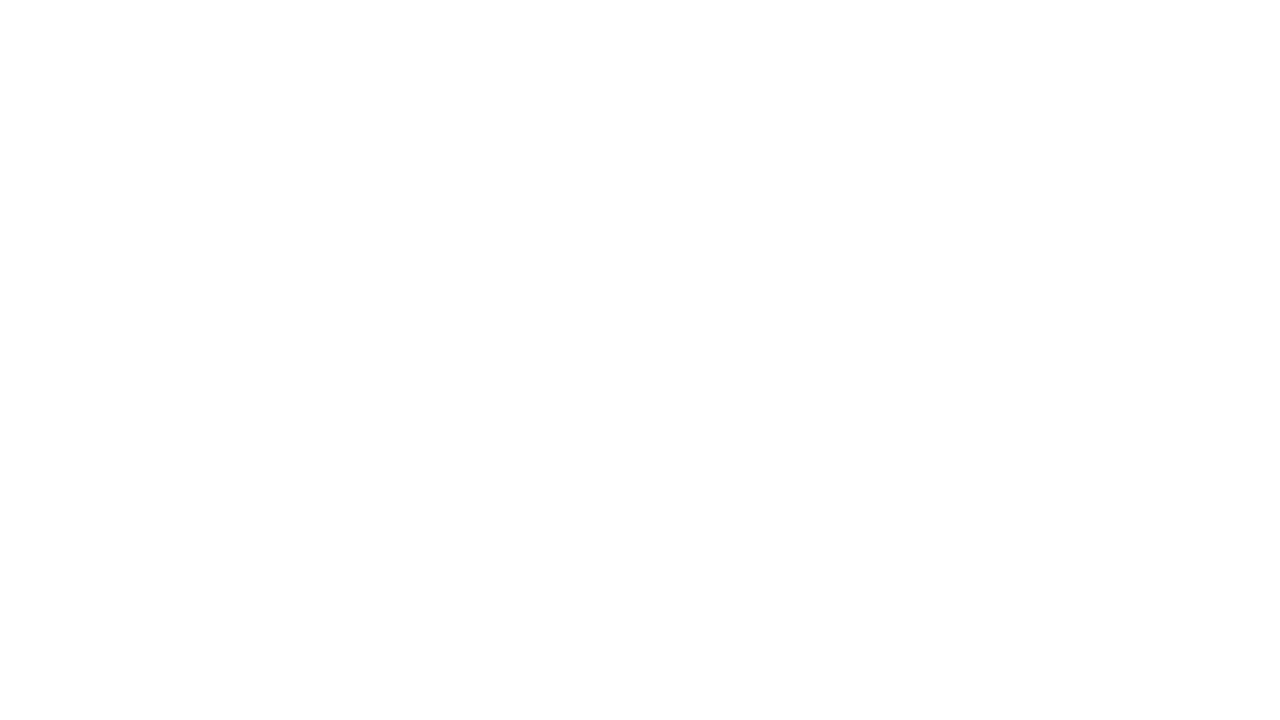
Глава 8. Разрушение распорядков
— Теперь ты довольно много знаешь об охоте, — продолжал дон Хуан, — и тебе легко осознать, что хороший охотник прежде всего знает одно — распорядок своей жертвы. Именно это и делает его хорошим охотником. Если ты вспомнишь, как я учил тебя охотиться, ты поймёшь, о чем я говорю.
Сначала я научил тебя делать и устанавливать ловушки, потом рассказал о жизненных распорядках дичи, которую предстоит ловить, и наконец мы на практике испытали, как ловушки работают с учётом этих распорядков. Это — элементы охотничьего искусства, образующие его внешнюю структуру.
А сейчас я обучу тебя последней и самой сложной части этого искусства. По сложности она, пожалуй, намного превосходит все остальные, вместе взятые. Наверное, пройдут годы, прежде чем ты сможешь сказать, что понял её и стал охотником.
Дон Хуан умолк, как бы давая мне время собраться с мыслями. Он снял шляпу и изобразил, как чистятся грызуны, за которыми мы весь день наблюдали. Получилось очень забавно. Круглая голова дона Хуана делала его похожим на одного из этих зверьков.
— Быть охотником — значит не просто ставить ловушки, — продолжал он.
— Охотник добывает дичь не потому, что устанавливает ловушки, и не потому, что знает распорядки своей добычи, но потому, что сам не имеет никаких распорядков. И в этом — его единственное решающее преимущество. Охотник не уподобляется тем, на кого он охотится. Они скованы жёсткими распорядками, путают след по строго определённой программе, и все причуды их легко предсказуемы.
Сначала я научил тебя делать и устанавливать ловушки, потом рассказал о жизненных распорядках дичи, которую предстоит ловить, и наконец мы на практике испытали, как ловушки работают с учётом этих распорядков. Это — элементы охотничьего искусства, образующие его внешнюю структуру.
А сейчас я обучу тебя последней и самой сложной части этого искусства. По сложности она, пожалуй, намного превосходит все остальные, вместе взятые. Наверное, пройдут годы, прежде чем ты сможешь сказать, что понял её и стал охотником.
Дон Хуан умолк, как бы давая мне время собраться с мыслями. Он снял шляпу и изобразил, как чистятся грызуны, за которыми мы весь день наблюдали. Получилось очень забавно. Круглая голова дона Хуана делала его похожим на одного из этих зверьков.
— Быть охотником — значит не просто ставить ловушки, — продолжал он.
— Охотник добывает дичь не потому, что устанавливает ловушки, и не потому, что знает распорядки своей добычи, но потому, что сам не имеет никаких распорядков. И в этом — его единственное решающее преимущество. Охотник не уподобляется тем, на кого он охотится. Они скованы жёсткими распорядками, путают след по строго определённой программе, и все причуды их легко предсказуемы.
Охотник свободен, текуч и непредсказуем
Слова дона Хуана я воспринял как произвольную иррациональную идеализацию. Я не мог себе представить жизнь без распорядков. Мне хотелось быть с ним предельно честным, поэтому дело было вовсе не в том, чтобы согласиться или не согласиться. Я чувствовал, что то, о чём он говорил, было невыполнимо. Ни для меня, ни для кого бы то ни было другого.
— Мне нет ровным счётом никакого дела до того, что ты по этому поводу чувствуешь, — сказал дон Хуан.
— Чтобы стать охотником, ты должен разрушить все свои распорядки, стереть все программы. Ты уже здорово преуспел в изучении охоты. Ты — способный ученик и схватываешь все на лету. Так что тебе уже должно быть ясно: ты подобен тем, на кого охотишься, ты — легко предсказуем.
Я попросил уточнить на конкретных примерах.
— Я говорю об охоте, — принялся спокойно объяснять дон Хуан. — Поэтому я так подробно останавливаюсь на том, что свойственно животным: где они кормятся; где, как и в какое время спят; где живут; как передвигаются. Всё это — программы, распорядки, на которые я обращаю твоё внимание, с тем чтобы ты провёл параллели с самим собой и осознал, что ты сам живёшь точно так же.
Ты внимательно наблюдал за жизнью и повадками обитателей пустыни. Они едят и пьют в строго определённых местах, они гнездятся на строго определённых участках, они оставляют следы строго определённым образом. То есть всему, что они делают, присуща строгая определённость, поэтому хорошему охотнику ничего не стоит предвидеть и точно рассчитать любое их действие. Я уже говорил, что с моей точки зрения ты ведёшь себя точно так же, как те, на кого ты охотишься. И в этом ты отнюдь не уникален.
Когда-то в моей жизни появился некто, указавший мне на то же самое в отношении меня самого. Всем нам свойственно вести себя подобно тем, на кого мы охотимся. И это, разумеется, в свою очередь делает нас чьей-то добычей. Таким образом, задача охотника, который отдаёт себе в этом отчёт — прекратить быть добычей. Понимаешь, что я хочу сказать?
Я снова высказал мнение, что его установка невыполнима.
— На это требуется время, — сказал он. — Можешь начать с того, чтобы отказаться от ежедневного ленча в одно и то же время.
Дон Хуан взглянул на меня и снисходительно улыбнулся, состроив такую забавную мину, что я не смог удержаться от смеха.
— Мне нет ровным счётом никакого дела до того, что ты по этому поводу чувствуешь, — сказал дон Хуан.
— Чтобы стать охотником, ты должен разрушить все свои распорядки, стереть все программы. Ты уже здорово преуспел в изучении охоты. Ты — способный ученик и схватываешь все на лету. Так что тебе уже должно быть ясно: ты подобен тем, на кого охотишься, ты — легко предсказуем.
Я попросил уточнить на конкретных примерах.
— Я говорю об охоте, — принялся спокойно объяснять дон Хуан. — Поэтому я так подробно останавливаюсь на том, что свойственно животным: где они кормятся; где, как и в какое время спят; где живут; как передвигаются. Всё это — программы, распорядки, на которые я обращаю твоё внимание, с тем чтобы ты провёл параллели с самим собой и осознал, что ты сам живёшь точно так же.
Ты внимательно наблюдал за жизнью и повадками обитателей пустыни. Они едят и пьют в строго определённых местах, они гнездятся на строго определённых участках, они оставляют следы строго определённым образом. То есть всему, что они делают, присуща строгая определённость, поэтому хорошему охотнику ничего не стоит предвидеть и точно рассчитать любое их действие. Я уже говорил, что с моей точки зрения ты ведёшь себя точно так же, как те, на кого ты охотишься. И в этом ты отнюдь не уникален.
Когда-то в моей жизни появился некто, указавший мне на то же самое в отношении меня самого. Всем нам свойственно вести себя подобно тем, на кого мы охотимся. И это, разумеется, в свою очередь делает нас чьей-то добычей. Таким образом, задача охотника, который отдаёт себе в этом отчёт — прекратить быть добычей. Понимаешь, что я хочу сказать?
Я снова высказал мнение, что его установка невыполнима.
— На это требуется время, — сказал он. — Можешь начать с того, чтобы отказаться от ежедневного ленча в одно и то же время.
Дон Хуан взглянул на меня и снисходительно улыбнулся, состроив такую забавную мину, что я не смог удержаться от смеха.
— Однако существуют животные, выследить которых невозможно, — продолжал он. — Например, — особый вид оленя. Очень удачливый охотник может встретиться с таким животным только благодаря редкостному везению, и едва ли ни единственный раз в жизни.
Дон Хуан выдержал драматическую паузу, взглянув на меня пронзительно. Он, похоже, ждал вопроса, но у меня вопросов не было. Тогда он сам спросил:
— Как ты думаешь, почему этих животных так трудно отыскать, и встреча с ними — столь уникальное явление?
Не зная, что сказать, я лишь пожал плечами.
— У них нет распорядков, — произнёс он таким тоном, словно это было великое откровение. — И это делает их волшебными животными.
— Но олень должен спать по ночам, — возразил я. — Разве это не распорядок?
— Распорядок, если олень спит каждую ночь в строго определённое время и во вполне определённом месте. Но волшебные животные так себя не ведут. Ты сам когда-нибудь, возможно, в этом убедишься. Наверное, весь остаток жизни ты будешь выслеживать одно из таких животных. Это станет твоей судьбой.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Тебе нравится охотиться, и, вероятно, в один из дней пути твои и волшебного существа пересекутся, и ты, вполне возможно, последуешь за ним. Волшебные животные являют собой зрелище воистину дивное.
Мне посчастливилось, и мой путь однажды пересёкся с тропой одного из них. Это случилось после того, как я очень многое узнал об охоте и долго отрабатывал это искусство. Как-то я бродил по густому лесу в безлюдных горах Центральной Мексики. Вдруг послышался очень мягкий и благозвучный свист. Я никогда не слышал этого звука, ни разу за многие годы странствований среди дикой природы.
Я не мог определить, где находится источник этого свиста; казалось, он доносится сразу со многих сторон. Я решил, что нахожусь в самой середине стада или стаи каких-то неведомых зверей. Дразнящий свист повторился, на этот раз он доносился как будто отовсюду.
И я понял, что мне несказанно повезло. Я знал, что это свистит чудесное существо — волшебный олень. Я знал также, что волшебный олень отлично разбирается как в распорядках обычных людей, так и в распорядках охотников.
Вычислить, что в такой ситуации будет делать обычный человек, очень легко. Прежде всего страх превратит его в добычу. А добыча может действовать только двумя способами: либо бросается наутёк, либо прячется. Если у человека нет оружия, он, вероятнее всего, бросится к открытому месту, чтобы там спастись бегством. Если он вооружён, он приготовит оружие к бою и устроит засаду, либо застыв неподвижно в зарослях, либо рухнув на землю.
Охотник же, выслеживающий дичь среди дикой природы, никогда никуда не пойдёт, не прикинув прежде, как ему защититься. Поэтому он немедленно спрячется. Он либо бросит своё пончо на землю, либо зацепит его за ветку, а сам спрячется поблизости и станет ждать, пока зверь опять не подаст голос или не шевельнётся.
Зная всё это, я повёл себя совершенно иначе. Я быстро встал на голову и начал тихонько подвывать. Я так долго самым натуральным образом лил слезы и всхлипывал, что едва не потерял сознание.
Вдруг я ощутил мягкое дыхание, кто-то обнюхивал мою голову как раз за правым ухом. Я попытался повернуться, чтобы взглянуть, кто это, но не удержал равновесия и перекувырнулся через голову. Я сел и увидел, что на меня смотрит светящееся существо. Олень внимательно меня разглядывал, и я сказал, что не причиню ему вреда. И он заговорил со мной.
Дон Хуан умолк и посмотрел на меня. Я непроизвольно улыбнулся. Говорящий олень — это было, мягко говоря, маловероятно.
— Он заговорил со мной, — с усмешкой повторил дон Хуан.
— Олень заговорил?
— Олень.
Дон Хуан встал и собрал свои охотничьи принадлежности.
— Что, правда заговорил? — переспросил я ещё раз с растерянностью в голосе.
Дон Хуан разразился хохотом.
— И что он сказал? — спросил я наполовину в шутку.
Я думал, он меня разыгрывает. Дон Хуан немного помолчал, как бы припоминая. Потом глаза его просветлели, он вспомнил:
— Олень сказал мне: «Здорово, приятель!»
А я ответил: «Привет!»
Тогда он спросил: «Отчего ты плачешь?»
Я сказал: «Оттого, что мне грустно».
Тогда волшебное существо наклонилось к самому моему уху и произнесло так же ясно, как говорю сейчас я:
Дон Хуан выдержал драматическую паузу, взглянув на меня пронзительно. Он, похоже, ждал вопроса, но у меня вопросов не было. Тогда он сам спросил:
— Как ты думаешь, почему этих животных так трудно отыскать, и встреча с ними — столь уникальное явление?
Не зная, что сказать, я лишь пожал плечами.
— У них нет распорядков, — произнёс он таким тоном, словно это было великое откровение. — И это делает их волшебными животными.
— Но олень должен спать по ночам, — возразил я. — Разве это не распорядок?
— Распорядок, если олень спит каждую ночь в строго определённое время и во вполне определённом месте. Но волшебные животные так себя не ведут. Ты сам когда-нибудь, возможно, в этом убедишься. Наверное, весь остаток жизни ты будешь выслеживать одно из таких животных. Это станет твоей судьбой.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Тебе нравится охотиться, и, вероятно, в один из дней пути твои и волшебного существа пересекутся, и ты, вполне возможно, последуешь за ним. Волшебные животные являют собой зрелище воистину дивное.
Мне посчастливилось, и мой путь однажды пересёкся с тропой одного из них. Это случилось после того, как я очень многое узнал об охоте и долго отрабатывал это искусство. Как-то я бродил по густому лесу в безлюдных горах Центральной Мексики. Вдруг послышался очень мягкий и благозвучный свист. Я никогда не слышал этого звука, ни разу за многие годы странствований среди дикой природы.
Я не мог определить, где находится источник этого свиста; казалось, он доносится сразу со многих сторон. Я решил, что нахожусь в самой середине стада или стаи каких-то неведомых зверей. Дразнящий свист повторился, на этот раз он доносился как будто отовсюду.
И я понял, что мне несказанно повезло. Я знал, что это свистит чудесное существо — волшебный олень. Я знал также, что волшебный олень отлично разбирается как в распорядках обычных людей, так и в распорядках охотников.
Вычислить, что в такой ситуации будет делать обычный человек, очень легко. Прежде всего страх превратит его в добычу. А добыча может действовать только двумя способами: либо бросается наутёк, либо прячется. Если у человека нет оружия, он, вероятнее всего, бросится к открытому месту, чтобы там спастись бегством. Если он вооружён, он приготовит оружие к бою и устроит засаду, либо застыв неподвижно в зарослях, либо рухнув на землю.
Охотник же, выслеживающий дичь среди дикой природы, никогда никуда не пойдёт, не прикинув прежде, как ему защититься. Поэтому он немедленно спрячется. Он либо бросит своё пончо на землю, либо зацепит его за ветку, а сам спрячется поблизости и станет ждать, пока зверь опять не подаст голос или не шевельнётся.
Зная всё это, я повёл себя совершенно иначе. Я быстро встал на голову и начал тихонько подвывать. Я так долго самым натуральным образом лил слезы и всхлипывал, что едва не потерял сознание.
Вдруг я ощутил мягкое дыхание, кто-то обнюхивал мою голову как раз за правым ухом. Я попытался повернуться, чтобы взглянуть, кто это, но не удержал равновесия и перекувырнулся через голову. Я сел и увидел, что на меня смотрит светящееся существо. Олень внимательно меня разглядывал, и я сказал, что не причиню ему вреда. И он заговорил со мной.
Дон Хуан умолк и посмотрел на меня. Я непроизвольно улыбнулся. Говорящий олень — это было, мягко говоря, маловероятно.
— Он заговорил со мной, — с усмешкой повторил дон Хуан.
— Олень заговорил?
— Олень.
Дон Хуан встал и собрал свои охотничьи принадлежности.
— Что, правда заговорил? — переспросил я ещё раз с растерянностью в голосе.
Дон Хуан разразился хохотом.
— И что он сказал? — спросил я наполовину в шутку.
Я думал, он меня разыгрывает. Дон Хуан немного помолчал, как бы припоминая. Потом глаза его просветлели, он вспомнил:
— Олень сказал мне: «Здорово, приятель!»
А я ответил: «Привет!»
Тогда он спросил: «Отчего ты плачешь?»
Я сказал: «Оттого, что мне грустно».
Тогда волшебное существо наклонилось к самому моему уху и произнесло так же ясно, как говорю сейчас я:
Не грусти
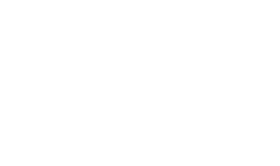
Глава 9. Последняя битва на земле
— Недостаточно знать, как делаются и устанавливаются ловушки, — сказал он.
— Чтобы извлечь из жизни максимум, охотник должен жить так, как подобает охотнику. К сожалению, человек изменяется с большим трудом, и изменения эти происходят очень медленно.
— Чтобы извлечь из жизни максимум, охотник должен жить так, как подобает охотнику. К сожалению, человек изменяется с большим трудом, и изменения эти происходят очень медленно.
Иногда только на то, чтобы человек убедился в необходимости измениться, уходят годы
Я, в частности, потратил на это годы. Но, возможно, у меня не было способностей к охоте. Я думаю, что самым трудным для меня было по-настоящему захотеть измениться.
Я заверил его в том, что понял, о чём он говорит. Действительно, с того времени как он взялся обучать меня охоте, я провёл переоценку всех своих действий. Наверное, самым драматическим открытием для меня стало то, что мне нравился образ жизни дона Хуана. Мне нравился сам дон Хуан как личность.
В его поведении было что-то несокрушимое. В том, как он действовал, чувствовалось истинное мастерство, но он никогда не пользовался своим превосходством, чтобы что-либо от меня потребовать.
Его стремление изменить мой образ жизни выливалось в безличные поручения, либо в авторитетную констатацию и разъяснение моих слабых сторон. Он заставил меня в полной мере осознать все мои недостатки, но я все же не мог представить себе, каким образом его путь может что-нибудь во мне исправить.
Я уважал мастерство дона Хуана, неизменно восхищавшее меня своей красотой и точностью.
— Я решил изменить тактику, — заявил он.
Я попросил объяснить, потому что его заявление показалось мне весьма туманным, я даже не был уверен в том, что оно касается именно меня. Он сказал, что
Я заверил его в том, что понял, о чём он говорит. Действительно, с того времени как он взялся обучать меня охоте, я провёл переоценку всех своих действий. Наверное, самым драматическим открытием для меня стало то, что мне нравился образ жизни дона Хуана. Мне нравился сам дон Хуан как личность.
В его поведении было что-то несокрушимое. В том, как он действовал, чувствовалось истинное мастерство, но он никогда не пользовался своим превосходством, чтобы что-либо от меня потребовать.
Его стремление изменить мой образ жизни выливалось в безличные поручения, либо в авторитетную констатацию и разъяснение моих слабых сторон. Он заставил меня в полной мере осознать все мои недостатки, но я все же не мог представить себе, каким образом его путь может что-нибудь во мне исправить.
Я уважал мастерство дона Хуана, неизменно восхищавшее меня своей красотой и точностью.
— Я решил изменить тактику, — заявил он.
Я попросил объяснить, потому что его заявление показалось мне весьма туманным, я даже не был уверен в том, что оно касается именно меня. Он сказал, что
хороший охотник меняет свой образ действия настолько часто, насколько это необходимо
— Дон Хуан, что ты задумал?
— Охотник должен не только разбираться в повадках тех, на кого он охотится. Кроме этого, ему необходимо знать, что на этой земле существуют силы, которые направляют и ведут людей, животных и вообще всё живое, что здесь есть.
Он замолчал. Я ждал, но он, похоже, сказал всё, что хотел.
— О каких силах ты говоришь? — спросил я после длительной паузы.
— О силах, которые руководят нашей жизнью и нашей смертью.
— Человек должен отвечать за то, что живёт в этом странном мире, — сказал он. — Ведь ты же знаешь, это — действительно странный мир.
Я утвердительно кивнул.
— Ты соглашаешься, но мы с тобой имеем в виду различные вещи. Для тебя мир странен своим свойством либо нагонять на тебя скуку, либо быть с тобой не в ладах. Для меня мир странен, потому что он огромен, устрашающ, таинственен, непостижим.
Ты должен с полной ответственностью отнестись к своему пребыванию здесь — в этом чудесном мире, здесь — в этой чудесной пустыне, сейчас — в это чудесное время. Моя задача — убедить тебя в этом. И я всё время старался её выполнить. Я хотел убедить тебя в том, что необходимо научиться отдавать себе отчёт в каждом действии, сделать каждое действие осознанным.
Ведь ты пришёл сюда ненадолго, и времени, которое тебе отпущено, слишком мало, действительно слишком мало для того, чтобы прикоснуться ко всем чудесам этого странного мира.
Ты можешь сделать гораздо больше и действовать гораздо лучше. Ты допускаешь только одну-единственную ошибку — ты думаешь, что в твоём распоряжении уйма времени.
— Уйма времени на что, дон Хуан?
— Ты считаешь, что твоя жизнь будет длиться вечно.
— Вовсе я так не считаю.
— Тогда, если ты не считаешь, что твоя жизнь будет длиться вечно, чего же ты ждёшь? Почему ты колеблешься вместо того, чтобы решительно измениться?
— А тебе не приходило в голову, дон Хуан, что я не хочу меняться?
— Приходило. Так же, как и ты, я когда-то не хотел изменяться. Однако мне не нравилась моя жизнь. Я устал от неё, так же как ты сейчас устал от своей. Зато теперь я чувствую, что на всё мне её не хватит.
Я начал неистово доказывать, что его настойчивое стремление изменить мой образ жизни — это произвол, и что оно меня пугает. Я сказал, что на определённом уровне я с ним согласен, но лишь один тот факт, что он неизменно остаётся хозяином положения, делает всю ситуацию неприемлемой для меня.
— Охотник должен не только разбираться в повадках тех, на кого он охотится. Кроме этого, ему необходимо знать, что на этой земле существуют силы, которые направляют и ведут людей, животных и вообще всё живое, что здесь есть.
Он замолчал. Я ждал, но он, похоже, сказал всё, что хотел.
— О каких силах ты говоришь? — спросил я после длительной паузы.
— О силах, которые руководят нашей жизнью и нашей смертью.
— Человек должен отвечать за то, что живёт в этом странном мире, — сказал он. — Ведь ты же знаешь, это — действительно странный мир.
Я утвердительно кивнул.
— Ты соглашаешься, но мы с тобой имеем в виду различные вещи. Для тебя мир странен своим свойством либо нагонять на тебя скуку, либо быть с тобой не в ладах. Для меня мир странен, потому что он огромен, устрашающ, таинственен, непостижим.
Ты должен с полной ответственностью отнестись к своему пребыванию здесь — в этом чудесном мире, здесь — в этой чудесной пустыне, сейчас — в это чудесное время. Моя задача — убедить тебя в этом. И я всё время старался её выполнить. Я хотел убедить тебя в том, что необходимо научиться отдавать себе отчёт в каждом действии, сделать каждое действие осознанным.
Ведь ты пришёл сюда ненадолго, и времени, которое тебе отпущено, слишком мало, действительно слишком мало для того, чтобы прикоснуться ко всем чудесам этого странного мира.
Ты можешь сделать гораздо больше и действовать гораздо лучше. Ты допускаешь только одну-единственную ошибку — ты думаешь, что в твоём распоряжении уйма времени.
— Уйма времени на что, дон Хуан?
— Ты считаешь, что твоя жизнь будет длиться вечно.
— Вовсе я так не считаю.
— Тогда, если ты не считаешь, что твоя жизнь будет длиться вечно, чего же ты ждёшь? Почему ты колеблешься вместо того, чтобы решительно измениться?
— А тебе не приходило в голову, дон Хуан, что я не хочу меняться?
— Приходило. Так же, как и ты, я когда-то не хотел изменяться. Однако мне не нравилась моя жизнь. Я устал от неё, так же как ты сейчас устал от своей. Зато теперь я чувствую, что на всё мне её не хватит.
Я начал неистово доказывать, что его настойчивое стремление изменить мой образ жизни — это произвол, и что оно меня пугает. Я сказал, что на определённом уровне я с ним согласен, но лишь один тот факт, что он неизменно остаётся хозяином положения, делает всю ситуацию неприемлемой для меня.
— Дурак, у тебя нет времени на то, чтобы становиться в позу, — сурово произнёс он.
— То, что ты делаешь в данный момент, вполне может оказаться твоим последним поступком на земле, твоей последней битвой. В мире нет силы, которая могла бы гарантировать тебе, что ты проживёшь ещё хотя бы минуту.
— Я знаю, — сказал я, сдерживая гнев.
— Нет. Ты не знаешь. Если бы ты это знал, ты был бы охотником.
Я заявил, что осознаю неотвратимость своей смерти, но говорить или думать об этом бесполезно, потому что я ничего не могу сделать, чтобы её избежать. Дон Хуан засмеялся и, сказал, что я похож на балаганного актёра, механически твердящего заученную роль.
— Если бы это была твоя последняя битва на земле, я бы сказал, что ты — идиот, — спокойно проговорил он. — Свой последний поступок на земле ты совершаешь, находясь в совершенно дурацком состоянии.
Некоторое время мы оба молчали. Мысли у меня в голове перепутались и устроили бешеную свистопляску. Он, разумеется, был прав.
— Друг мой, у тебя же нет времени. Нет времени. Его нет ни у кого из нас.
— Я согласен с тобой, дон Хуан, но…
— Просто соглашаться ни к чему, — перебил он. — Вместо того, чтобы так легко соглашаться на словах, ты должен соответствующим образом действовать. Прими вызов. Изменись.
— Что, вот так взять и измениться?
— Именно так. Изменение, о котором я говорю, никогда не бывает постепенным. Оно происходит внезапно. А ты даже не думаешь готовиться к неожиданному действию, от которого изменится абсолютно всё.
Мне показалось, что он сам себе противоречит. Я объяснил ему, что если бы я готовился к изменению, то тем самым постепенно изменялся бы.
— Ты не изменился ни на йоту, — сказал он. — И поэтому веришь, что меняешься очень постепенно, понемногу. Но однажды ты, возможно, очень удивишься, обнаружив, что внезапно, без каких бы то ни было предупреждений изменился. Я знаю, что так оно и бывает, и поэтому не оставляю попыток тебя убедить.
Немного помолчав, дон Хуан продолжил объяснения:
— Ни у одного из нас не может быть уверенности в том, что его жизнь будет продолжаться неопределённо долго. Я только что сказал, что изменение происходит внезапно. Точно так же приходит смерть. Как ты думаешь, что можно с этим поделать?
Я решил, что его вопрос — чисто риторический. Но он приподнял брови, требуя ответа.
— Жить как можно счастливее, — ответил я.
— Верно! А ты знаешь хоть одного человека, который был бы по-настоящему счастлив?
— Нет.
— А я — знаю, — сказал дон Хуан. — Есть люди, которые очень аккуратно и осторожно относятся к природе своих поступков. Их счастье — в том, что они действуют с полным осознанием того, что у них нет времени. Поэтому во всех их действиях присутствует особая сила, в каждом их поступке есть чувство.
— Поступки обладают силой, — сказал он. — Особенно когда тот, кто их совершает, знает, что это — его последняя битва.
— То, что ты делаешь в данный момент, вполне может оказаться твоим последним поступком на земле, твоей последней битвой. В мире нет силы, которая могла бы гарантировать тебе, что ты проживёшь ещё хотя бы минуту.
— Я знаю, — сказал я, сдерживая гнев.
— Нет. Ты не знаешь. Если бы ты это знал, ты был бы охотником.
Я заявил, что осознаю неотвратимость своей смерти, но говорить или думать об этом бесполезно, потому что я ничего не могу сделать, чтобы её избежать. Дон Хуан засмеялся и, сказал, что я похож на балаганного актёра, механически твердящего заученную роль.
— Если бы это была твоя последняя битва на земле, я бы сказал, что ты — идиот, — спокойно проговорил он. — Свой последний поступок на земле ты совершаешь, находясь в совершенно дурацком состоянии.
Некоторое время мы оба молчали. Мысли у меня в голове перепутались и устроили бешеную свистопляску. Он, разумеется, был прав.
— Друг мой, у тебя же нет времени. Нет времени. Его нет ни у кого из нас.
— Я согласен с тобой, дон Хуан, но…
— Просто соглашаться ни к чему, — перебил он. — Вместо того, чтобы так легко соглашаться на словах, ты должен соответствующим образом действовать. Прими вызов. Изменись.
— Что, вот так взять и измениться?
— Именно так. Изменение, о котором я говорю, никогда не бывает постепенным. Оно происходит внезапно. А ты даже не думаешь готовиться к неожиданному действию, от которого изменится абсолютно всё.
Мне показалось, что он сам себе противоречит. Я объяснил ему, что если бы я готовился к изменению, то тем самым постепенно изменялся бы.
— Ты не изменился ни на йоту, — сказал он. — И поэтому веришь, что меняешься очень постепенно, понемногу. Но однажды ты, возможно, очень удивишься, обнаружив, что внезапно, без каких бы то ни было предупреждений изменился. Я знаю, что так оно и бывает, и поэтому не оставляю попыток тебя убедить.
Немного помолчав, дон Хуан продолжил объяснения:
— Ни у одного из нас не может быть уверенности в том, что его жизнь будет продолжаться неопределённо долго. Я только что сказал, что изменение происходит внезапно. Точно так же приходит смерть. Как ты думаешь, что можно с этим поделать?
Я решил, что его вопрос — чисто риторический. Но он приподнял брови, требуя ответа.
— Жить как можно счастливее, — ответил я.
— Верно! А ты знаешь хоть одного человека, который был бы по-настоящему счастлив?
— Нет.
— А я — знаю, — сказал дон Хуан. — Есть люди, которые очень аккуратно и осторожно относятся к природе своих поступков. Их счастье — в том, что они действуют с полным осознанием того, что у них нет времени. Поэтому во всех их действиях присутствует особая сила, в каждом их поступке есть чувство.
— Поступки обладают силой, — сказал он. — Особенно когда тот, кто их совершает, знает, что это — его последняя битва.
В действии с полным осознанием того, что это действие может стать для тебя последним на земле, есть особое всепоглощающее счастье
Я не согласился с ним. Я сказал, что для меня счастье состоит в том, что моим действиям свойственна определённая протяжённость во времени, и я могу по своему желанию продолжать делать то, что делаю в данный момент, особенно если это мне нравится.
Я объяснил ему, что моё несогласие — отнюдь не банальная фраза, но утверждение, которое вытекает из глубокой убеждённости в том, что и мир, и я сам обладаем свойством существовать в течение промежутка времени, вполне поддающегося оценке.
Я признался, что боюсь мыслей о предстоящей смерти и не желаю об этом думать.
— Почему?
— Это бессмысленно. Ведь смерть так или иначе где-то меня ждёт, тогда какой смысл по этому поводу тревожиться?
— Разве я сказал, что ты должен по этому поводу тревожиться?
— Тогда что я должен делать?
— Использовать её. Сосредоточить внимание на связующем звене между тобой и твоей смертью, отбросив сожаление, печаль и тревогу. Сосредоточить внимание на том факте, что у тебя нет времени. И пусть действия твои текут соответственно. Пусть каждое из них станет твоей последней битвой на земле. Только в этом случае каждый твой поступок будет обладать законной силой. А иначе все, что ты будешь делать в своей жизни, так и останется действиями робкого и нерешительного человека.
— А что, это так ужасно — быть робким и нерешительным человеком?
— Нет, если ты намерен жить вечно. Но если тебе предстоит умереть, то у тебя просто нет времени на проявления робости и нерешительности.
Нерешительность заставляет тебя цепляться за то, что существует только в твоём воображении. Пока в мире — затишье, это успокаивает. Но потом этот жуткий таинственный мир разевает пасть, намереваясь тебя проглотить, и ты с полной очевидностью осознаёшь, что все твои проверенные и надёжные пути вовсе такими не были. Нерешительность мешает нам испытать и полноценно использовать свою судьбу — судьбу людей.
— Но, дон Хуан, это же противоестественно — все время жить с мыслью о смерти.
— Смерть ожидает нас, и то, что мы делаем в этот самый миг, вполне может стать нашей последней битвой на этой земле, — очень серьёзно, почти торжественно произнёс он.
— Я называю это битвой, потому что это — борьба. Подавляющее большинство людей переходит от действия к действию без борьбы и без мысли.
Охотник же, наоборот, тщательно взвешивает каждый свой поступок. И поскольку он очень близко знаком со своей смертью, он действует рассудительно, так, словно каждое его действие — последняя битва. Только дурак может не заметить, насколько охотник превосходит своих ближних — обычных людей. Охотник с должным уважением относится к своей последней битве. И вполне естественно, что
Я объяснил ему, что моё несогласие — отнюдь не банальная фраза, но утверждение, которое вытекает из глубокой убеждённости в том, что и мир, и я сам обладаем свойством существовать в течение промежутка времени, вполне поддающегося оценке.
Я признался, что боюсь мыслей о предстоящей смерти и не желаю об этом думать.
— Почему?
— Это бессмысленно. Ведь смерть так или иначе где-то меня ждёт, тогда какой смысл по этому поводу тревожиться?
— Разве я сказал, что ты должен по этому поводу тревожиться?
— Тогда что я должен делать?
— Использовать её. Сосредоточить внимание на связующем звене между тобой и твоей смертью, отбросив сожаление, печаль и тревогу. Сосредоточить внимание на том факте, что у тебя нет времени. И пусть действия твои текут соответственно. Пусть каждое из них станет твоей последней битвой на земле. Только в этом случае каждый твой поступок будет обладать законной силой. А иначе все, что ты будешь делать в своей жизни, так и останется действиями робкого и нерешительного человека.
— А что, это так ужасно — быть робким и нерешительным человеком?
— Нет, если ты намерен жить вечно. Но если тебе предстоит умереть, то у тебя просто нет времени на проявления робости и нерешительности.
Нерешительность заставляет тебя цепляться за то, что существует только в твоём воображении. Пока в мире — затишье, это успокаивает. Но потом этот жуткий таинственный мир разевает пасть, намереваясь тебя проглотить, и ты с полной очевидностью осознаёшь, что все твои проверенные и надёжные пути вовсе такими не были. Нерешительность мешает нам испытать и полноценно использовать свою судьбу — судьбу людей.
— Но, дон Хуан, это же противоестественно — все время жить с мыслью о смерти.
— Смерть ожидает нас, и то, что мы делаем в этот самый миг, вполне может стать нашей последней битвой на этой земле, — очень серьёзно, почти торжественно произнёс он.
— Я называю это битвой, потому что это — борьба. Подавляющее большинство людей переходит от действия к действию без борьбы и без мысли.
Охотник же, наоборот, тщательно взвешивает каждый свой поступок. И поскольку он очень близко знаком со своей смертью, он действует рассудительно, так, словно каждое его действие — последняя битва. Только дурак может не заметить, насколько охотник превосходит своих ближних — обычных людей. Охотник с должным уважением относится к своей последней битве. И вполне естественно, что
последний поступок должен быть самым лучшим – это доставляет удовольствие и притупляет страх
— Ты прав, — признал я. — Просто это трудно принять.
— Да. Чтобы убедиться в том, что дело обстоит именно так, тебе понадобятся годы. И годы — на то, чтобы научиться действовать сообразно этому убеждению. Мне остаётся лишь надеяться, что ты успеешь.
— Ты пугаешь меня, когда так говоришь, — сказал я.
Дон Хуан окинул меня взглядом. Лицо его было необычайно серьёзно. — Я уже говорил тебе, это — очень странный мир.
— Да. Чтобы убедиться в том, что дело обстоит именно так, тебе понадобятся годы. И годы — на то, чтобы научиться действовать сообразно этому убеждению. Мне остаётся лишь надеяться, что ты успеешь.
— Ты пугаешь меня, когда так говоришь, — сказал я.
Дон Хуан окинул меня взглядом. Лицо его было необычайно серьёзно. — Я уже говорил тебе, это — очень странный мир.
Силы, которые руководят людьми, непредсказуемы и ужасны, но в то же время их великолепие стоит того, чтобы стать его свидетелем
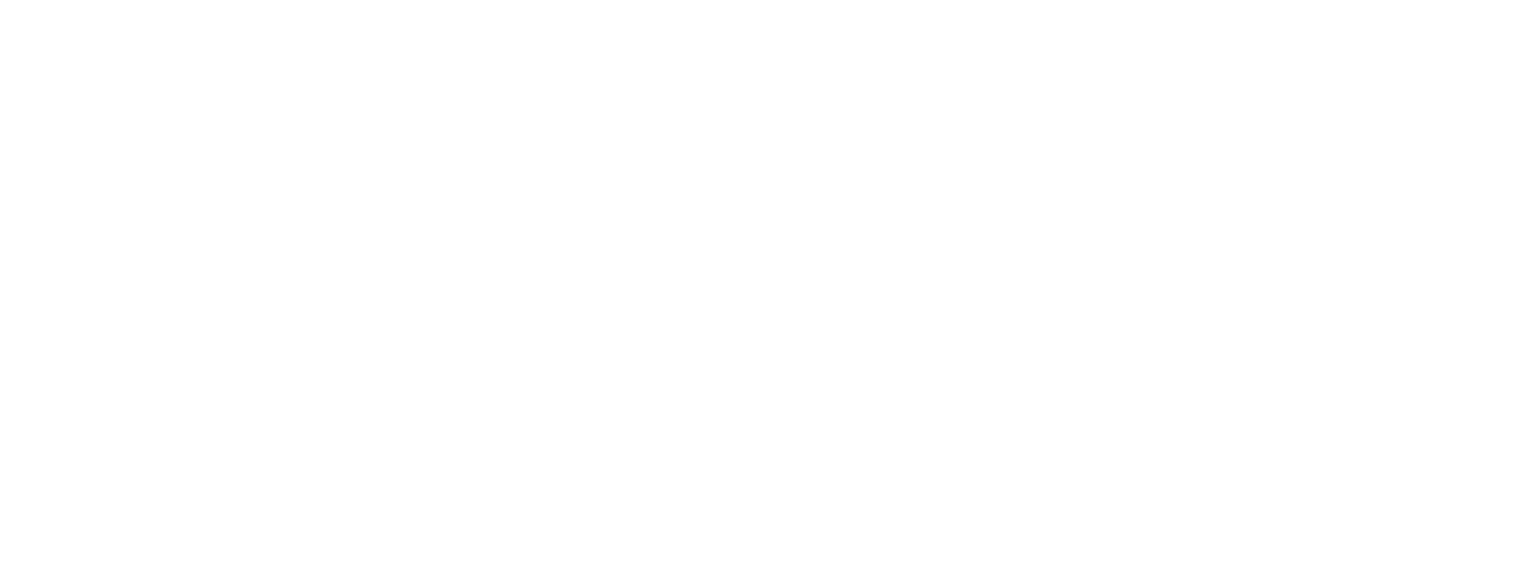
Он замолчал и снова взглянул на меня. Казалось, он вот-вот раскроет мне что-то очень важное. Но он передумал и улыбнулся.
— Что, в самом деле существует нечто, что нами руководит?
— Конечно. Существуют силы, которые нас направляют.
— Ты можешь их описать?
— Нет. Действительно — нет. Я могу только назвать их разными словами: сила, дух, ветер или как-нибудь ещё.
Я собрался было расспросить его подробнее, но не успел задать ни одного вопроса. Он встал и сухим приказным тоном велел мне поймать кролика, убить, освежевать и зажарить до того, как закончатся сумерки.
Он взглянул на небо и сообщил, что времени у меня, пожалуй, достаточно.
Я автоматически начал действовать так, как действовал уже много раз. Дон Хуан шёл рядом и оценивающим взглядом следил за каждым моим движением. Я был очень спокоен и двигался с большой осторожностью, поэтому без особого труда в скором времени поймал кролика-самца.
— Теперь убей его, — сухо велел дон Хуан.
Я засунул руку в ловушку, схватил кролика за уши и начал тянуть к себе. И тут вдруг меня охватил дикий ужас. Впервые за все время, в течение которого дон Хуан обучал меня охоте, до меня дошло: он никогда не учил меня убивать дичь! Множество раз мы с ним бродили по пустыне, и до сих пор он убил только одного кролика, двух перепелов и одну гремучую змею.
Я отпустил кролика и взглянул на дона Хуана:
— Я не могу его убить.
— Почему?
— Я никогда этого не делал.
— Но ты же убил сотни птиц и других животных.
— Из ружья, а не голыми руками.
— Какая разница? Время этого кролика подошло к концу.
Тон дона Хуана потряс меня. Он говорил настолько уверенно, с такой убеждённостью, что в сознании моем не осталось и тени сомнения. Он действительно знал, что время этого кролика закончилось.
— Убей его! — с яростным блеском в глазах приказал он.
— Не могу.
Дон Хуан закричал, что кролик должен умереть, потому что закончил свои скитания по этой прекрасной пустыне, и что мне нечего увиливать, так как сила, которая направляет пути кроликов, привела в мою ловушку именно этого кролика, и сделала это как раз на границе сумерек.
На меня нахлынул целый поток бессвязных мыслей и ощущений. Они словно только и ждали возможности меня одолеть, и, явившись, привели меня в состояние глубокой подавленности. Со смертельной ясностью я почувствовал, какая это трагедия для кролика — попасть в мою западню. За считанные секунды в сознании пронеслись воспоминания о наиболее критических моментах моей жизни, когда я сам был в положении, подобном положению этого кролика.
Я смотрел на кролика, а кролик — на меня. Он прижался к задней стенке клетки. Он сидел, свернувшись почти калачиком, очень тихо и неподвижно. Мы с ним обменялись мрачными взглядами. В его взгляде я прочёл молчаливое отчаяние, и это ещё больше усилило во мне ощущение полного сходства с этим кроликом. Я живо представил себя на его месте.
— Чёрт с ним, — громко сказал я. — Я никого не буду убивать. Я его отпускаю.
От избытка чувств меня затрясло. Дрожащими руками я полез в ловушку, пытаясь схватить кролика за уши. Он быстро увернулся, и я промазал. Я попытался ещё раз и снова неудачно. Я пришёл в отчаяние. Меня стало тошнить, и я быстро ударил по ловушке ногой, чтобы разбить её и таким образом освободить кролика. Но клетка оказалась неожиданно прочной и не разваливалась.
Моё отчаяние переросло в невыносимую муку. Изо всех сил я правой ногой топнул по клетке. Прутья с треском сломались. Я вытащил кролика, на мгновение испытав облегчение, от которого в следующий момент не осталось и следа. Кролик без движения висел у меня в руке. Он был мёртв.
Я не знал, что делать. В голове начали роиться мысли о том, отчего мог умереть кролик. Я оглянулся на дона Хуана. Он смотрел на меня. Я ощутил ужас, от которого по всему телу прошла холодная волна.
Я сел на землю возле каких-то камней. Ужасно болела голова. Дон Хуан положил на неё ладонь и прошептал мне в самое ухо, что я должен освежевать кролика и зажарить мясо до того, как закончатся сумерки.
Меня тошнило. Дон Хуан разговаривал со мной очень терпеливо, как с ребёнком. Он сказал, что силы, руководящие людьми и животными, привели именно этого кролика ко мне. Точно так же когда-нибудь они приведут меня к моей собственной смерти. Он сказал, что смерть кролика была даром мне, точно так же как моя смерть станет даром кому-то другому.
Мне было плохо. Казалось бы, ничего особенного не произошло, но простые события этого дня что-то надломили во мне. Я пытался думать, что это — всего-навсего кролик, но однако не мог отделаться от ощущения какой-то жуткой своей с ним тождественности.
Дон Хуан сказал, что я должен поесть мяса этого кролика. Хоть кусочек. Это закрепит то, что я сделал сегодня.
— Я не могу, — кротко попытался я отказаться.
— В руках этих сил мы — мусор, ничто, — жёстко произнёс он. — Так что прекрати потакать своему чувству собственной важности и воспользуйся подарком силы как подобает.
Я поднял кролика. Он был ещё тёплый.
Дон Хуан наклонился ко мне и прошептал:
— Твоя ловушка стала для него последней битвой и время его скитаний по этой чудесной пустыне закончилось.
— Что, в самом деле существует нечто, что нами руководит?
— Конечно. Существуют силы, которые нас направляют.
— Ты можешь их описать?
— Нет. Действительно — нет. Я могу только назвать их разными словами: сила, дух, ветер или как-нибудь ещё.
Я собрался было расспросить его подробнее, но не успел задать ни одного вопроса. Он встал и сухим приказным тоном велел мне поймать кролика, убить, освежевать и зажарить до того, как закончатся сумерки.
Он взглянул на небо и сообщил, что времени у меня, пожалуй, достаточно.
Я автоматически начал действовать так, как действовал уже много раз. Дон Хуан шёл рядом и оценивающим взглядом следил за каждым моим движением. Я был очень спокоен и двигался с большой осторожностью, поэтому без особого труда в скором времени поймал кролика-самца.
— Теперь убей его, — сухо велел дон Хуан.
Я засунул руку в ловушку, схватил кролика за уши и начал тянуть к себе. И тут вдруг меня охватил дикий ужас. Впервые за все время, в течение которого дон Хуан обучал меня охоте, до меня дошло: он никогда не учил меня убивать дичь! Множество раз мы с ним бродили по пустыне, и до сих пор он убил только одного кролика, двух перепелов и одну гремучую змею.
Я отпустил кролика и взглянул на дона Хуана:
— Я не могу его убить.
— Почему?
— Я никогда этого не делал.
— Но ты же убил сотни птиц и других животных.
— Из ружья, а не голыми руками.
— Какая разница? Время этого кролика подошло к концу.
Тон дона Хуана потряс меня. Он говорил настолько уверенно, с такой убеждённостью, что в сознании моем не осталось и тени сомнения. Он действительно знал, что время этого кролика закончилось.
— Убей его! — с яростным блеском в глазах приказал он.
— Не могу.
Дон Хуан закричал, что кролик должен умереть, потому что закончил свои скитания по этой прекрасной пустыне, и что мне нечего увиливать, так как сила, которая направляет пути кроликов, привела в мою ловушку именно этого кролика, и сделала это как раз на границе сумерек.
На меня нахлынул целый поток бессвязных мыслей и ощущений. Они словно только и ждали возможности меня одолеть, и, явившись, привели меня в состояние глубокой подавленности. Со смертельной ясностью я почувствовал, какая это трагедия для кролика — попасть в мою западню. За считанные секунды в сознании пронеслись воспоминания о наиболее критических моментах моей жизни, когда я сам был в положении, подобном положению этого кролика.
Я смотрел на кролика, а кролик — на меня. Он прижался к задней стенке клетки. Он сидел, свернувшись почти калачиком, очень тихо и неподвижно. Мы с ним обменялись мрачными взглядами. В его взгляде я прочёл молчаливое отчаяние, и это ещё больше усилило во мне ощущение полного сходства с этим кроликом. Я живо представил себя на его месте.
— Чёрт с ним, — громко сказал я. — Я никого не буду убивать. Я его отпускаю.
От избытка чувств меня затрясло. Дрожащими руками я полез в ловушку, пытаясь схватить кролика за уши. Он быстро увернулся, и я промазал. Я попытался ещё раз и снова неудачно. Я пришёл в отчаяние. Меня стало тошнить, и я быстро ударил по ловушке ногой, чтобы разбить её и таким образом освободить кролика. Но клетка оказалась неожиданно прочной и не разваливалась.
Моё отчаяние переросло в невыносимую муку. Изо всех сил я правой ногой топнул по клетке. Прутья с треском сломались. Я вытащил кролика, на мгновение испытав облегчение, от которого в следующий момент не осталось и следа. Кролик без движения висел у меня в руке. Он был мёртв.
Я не знал, что делать. В голове начали роиться мысли о том, отчего мог умереть кролик. Я оглянулся на дона Хуана. Он смотрел на меня. Я ощутил ужас, от которого по всему телу прошла холодная волна.
Я сел на землю возле каких-то камней. Ужасно болела голова. Дон Хуан положил на неё ладонь и прошептал мне в самое ухо, что я должен освежевать кролика и зажарить мясо до того, как закончатся сумерки.
Меня тошнило. Дон Хуан разговаривал со мной очень терпеливо, как с ребёнком. Он сказал, что силы, руководящие людьми и животными, привели именно этого кролика ко мне. Точно так же когда-нибудь они приведут меня к моей собственной смерти. Он сказал, что смерть кролика была даром мне, точно так же как моя смерть станет даром кому-то другому.
Мне было плохо. Казалось бы, ничего особенного не произошло, но простые события этого дня что-то надломили во мне. Я пытался думать, что это — всего-навсего кролик, но однако не мог отделаться от ощущения какой-то жуткой своей с ним тождественности.
Дон Хуан сказал, что я должен поесть мяса этого кролика. Хоть кусочек. Это закрепит то, что я сделал сегодня.
— Я не могу, — кротко попытался я отказаться.
— В руках этих сил мы — мусор, ничто, — жёстко произнёс он. — Так что прекрати потакать своему чувству собственной важности и воспользуйся подарком силы как подобает.
Я поднял кролика. Он был ещё тёплый.
Дон Хуан наклонился ко мне и прошептал:
— Твоя ловушка стала для него последней битвой и время его скитаний по этой чудесной пустыне закончилось.
Глава 10. Открыться силе
— Охотнику не нужно уметь обращаться с силой, поэтому его сны — это просто сны. Они могут вызвать сильные чувства, но это не сновидения.
А вот воин, напротив, ищет силу и сновидения — один из путей её достижения. Можно сказать, что разница между охотником и воином заключается в том, что воин идёт по пути к силе, тогда как охотник ничего или почти ничего о ней не знает.
Нам не дано решать, кто может быть воином, а кто — всего лишь охотником. Это вправе решать лишь те силы, которые движут людьми. Вот почему твоя игра с Мескалито была столь важным знамением.
Это сила привела тебя ко мне. Она доставила тебя на автобусную остановку, ты помнишь? Некий клоун привёл тебя ко мне. Это верный знак, когда на тебя указывает какой-то клоун. Поэтому я сделал из тебя охотника. А потом был ещё один верный знак — сам Мескалито играл с тобой. Понятно, что я имею в виду?
Жуткая логика его рассуждений ошеломляла. Из его слов возникал образ меня самого, уступающего чему-то ужасному и неведомому, к встрече с чем я не был готов и в существовании чего не мог бы поверить, обладая я даже самой бурной фантазией.
— Что же, по-твоему, я должен делать, — спросил я его.
— Стань доступным силе. Ухватись за свои сновидения, — сказал он в ответ. — Ты называешь их снами, поскольку не властен над ними. Воин — тот, кто ищет силу, и он не зовёт это сном. Сновидения для него — реальность.
— Ты полагаешь, он принимает сны за реальность?
— Он никогда не принимает одно за другое. То, что ты называешь сном — воин зовёт реальностью. Ты должен понять, что воин не глуп.
А вот воин, напротив, ищет силу и сновидения — один из путей её достижения. Можно сказать, что разница между охотником и воином заключается в том, что воин идёт по пути к силе, тогда как охотник ничего или почти ничего о ней не знает.
Нам не дано решать, кто может быть воином, а кто — всего лишь охотником. Это вправе решать лишь те силы, которые движут людьми. Вот почему твоя игра с Мескалито была столь важным знамением.
Это сила привела тебя ко мне. Она доставила тебя на автобусную остановку, ты помнишь? Некий клоун привёл тебя ко мне. Это верный знак, когда на тебя указывает какой-то клоун. Поэтому я сделал из тебя охотника. А потом был ещё один верный знак — сам Мескалито играл с тобой. Понятно, что я имею в виду?
Жуткая логика его рассуждений ошеломляла. Из его слов возникал образ меня самого, уступающего чему-то ужасному и неведомому, к встрече с чем я не был готов и в существовании чего не мог бы поверить, обладая я даже самой бурной фантазией.
— Что же, по-твоему, я должен делать, — спросил я его.
— Стань доступным силе. Ухватись за свои сновидения, — сказал он в ответ. — Ты называешь их снами, поскольку не властен над ними. Воин — тот, кто ищет силу, и он не зовёт это сном. Сновидения для него — реальность.
— Ты полагаешь, он принимает сны за реальность?
— Он никогда не принимает одно за другое. То, что ты называешь сном — воин зовёт реальностью. Ты должен понять, что воин не глуп.
Воин — безупречный охотник, охотник за силой
Он не пьяница и не наркоман, у него нет ни времени, ни желания блефовать, лгать себе самому либо делать неправильные ходы. Слишком высоки его ставки. На кону стоит его устоявшаяся организованная жизнь, на которую у него ушло так много времени, чтобы сделать её совершенной. Он не намерен швырять эту жизнь на ветер вследствие нелепого просчёта либо случайно приняв что-то одно за нечто другое.
Сновидение для воина реально, поскольку в нем он может действовать сознательно, принимая и отвергая лишения. Здесь он может выбирать между массой вещей, способных привести его к силе, здесь он может манипулировать ими и использовать их, тогда как в обычном сне он не в силах действовать намеренно.
— То есть ты хочешь сказать, дон Хуан, что сновидение реально?
— Да, это так.
— Столь же реально, как то, что мы делаем сейчас?
— Если ты склонен к сравнениям, то могу сказать, что сновидение куда более реально. Благодаря ему ты получаешь силу, посредством которой можешь менять ход вещей и событий. Ты можешь обнаружить бессчётное множество таинственных фактов. Ты можешь управлять всем, чем пожелаешь.
Подобные умозаключения дона Хуана никогда не доходили до меня с первого раза, поскольку требовали определённой подготовки. Я легко мог бы понять его приверженность мысли о том, будто во сне можно делать все, что угодно. Но мне было трудно принимать это всерьёз. Между нами лежала огромная пропасть.
С минуту мы смотрели друг на друга. Его суждения были абсурдны, и все же это был самый здравомыслящий человек из всех, кого мне приходилось знать
Сновидение для воина реально, поскольку в нем он может действовать сознательно, принимая и отвергая лишения. Здесь он может выбирать между массой вещей, способных привести его к силе, здесь он может манипулировать ими и использовать их, тогда как в обычном сне он не в силах действовать намеренно.
— То есть ты хочешь сказать, дон Хуан, что сновидение реально?
— Да, это так.
— Столь же реально, как то, что мы делаем сейчас?
— Если ты склонен к сравнениям, то могу сказать, что сновидение куда более реально. Благодаря ему ты получаешь силу, посредством которой можешь менять ход вещей и событий. Ты можешь обнаружить бессчётное множество таинственных фактов. Ты можешь управлять всем, чем пожелаешь.
Подобные умозаключения дона Хуана никогда не доходили до меня с первого раза, поскольку требовали определённой подготовки. Я легко мог бы понять его приверженность мысли о том, будто во сне можно делать все, что угодно. Но мне было трудно принимать это всерьёз. Между нами лежала огромная пропасть.
С минуту мы смотрели друг на друга. Его суждения были абсурдны, и все же это был самый здравомыслящий человек из всех, кого мне приходилось знать
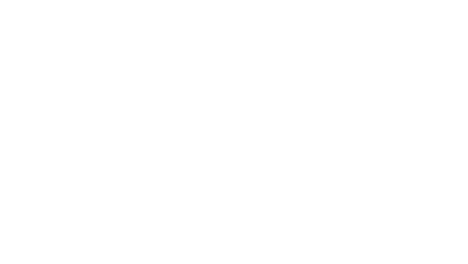
— Что такое сила? — спросил я.
— Сила — это нечто, с чем имеет дело воин, — объяснил он. — Вначале она кажется человеку чем-то совершенно невероятным, противоестественным, в существование чего невозможно поверить, о чем даже думать трудно, не то чтобы её себе представить. Сейчас ты находишься с ней именно в таких отношениях. Но потом она превращается в нечто серьёзное, и отношение к ней соответственно изменяется.
Человек может ею не обладать, он может даже в полной мере не осознавать её существования, но он уже чувствует, он уже знает — в мире присутствует что-то, чего до этого он не замечал. А затем сила даёт о себе знать, она приходит к человеку, и он не может ничего с этим поделать, так как сила для него пока остаётся неуправляемой.
Не существует слов, которыми можно было бы описать, как она приходит и чем в действительности является. Она — ничто, и в то же время ей подвластны чудеса, и чудеса эти человек видит собственными глазами. И, наконец, сила становится чем-то, присущим самому человеку, превращается в нечто, что изнутри управляет его действиями и в то же время подчиняется его командам, подвластно его решениям
— Сила — это нечто, с чем имеет дело воин, — объяснил он. — Вначале она кажется человеку чем-то совершенно невероятным, противоестественным, в существование чего невозможно поверить, о чем даже думать трудно, не то чтобы её себе представить. Сейчас ты находишься с ней именно в таких отношениях. Но потом она превращается в нечто серьёзное, и отношение к ней соответственно изменяется.
Человек может ею не обладать, он может даже в полной мере не осознавать её существования, но он уже чувствует, он уже знает — в мире присутствует что-то, чего до этого он не замечал. А затем сила даёт о себе знать, она приходит к человеку, и он не может ничего с этим поделать, так как сила для него пока остаётся неуправляемой.
Не существует слов, которыми можно было бы описать, как она приходит и чем в действительности является. Она — ничто, и в то же время ей подвластны чудеса, и чудеса эти человек видит собственными глазами. И, наконец, сила становится чем-то, присущим самому человеку, превращается в нечто, что изнутри управляет его действиями и в то же время подчиняется его командам, подвластно его решениям
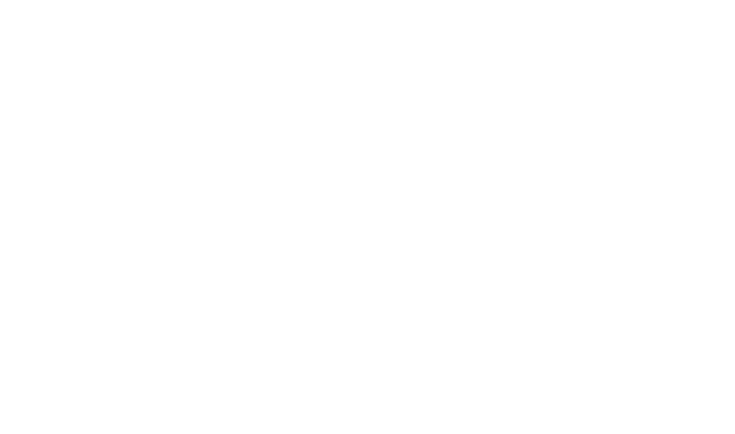
После короткой паузы дон Хуан спросил, понял ли я. Я сказал, что понял, чувствуя себя при этом довольно по-дурацки. Он, похоже, заметил, что настроение у меня заметно упало, усмехнулся и отчётливо, словно диктуя мне письмо, проговорил:
— На этом самом месте я научу тебя формировать сновидение.
Он опять взглянул на меня и спросил, знаю ли я, о чем идёт речь. Я не знал. Я вообще почти ничего не понимал. Он объяснил, что формировать сновидение — значит точно и жёстко управлять общим ходом сна, целенаправленно формируя возникающую в нем ситуацию, подобно тому, как человек управляет своими действиями, например, идя по пустыне и решая, скажем, взобраться на холм или укрыться в тени скал водного каньона.
— Начинать следует с какого-нибудь простого действия, — сказал дон Хуан. — Сегодня ночью во сне посмотри на свои руки.
Я громко рассмеялся. В его интерпретации это звучало так, словно речь шла о чем-то обычном, что я делаю изо дня в день.
— Почему ты смеёшься? — удивился он.
— Как, интересно, во сне можно посмотреть на собственные руки?
— Очень просто: перевести на них взгляд. Вот так.
И он наклонил голову и, разинув рот, уставился на свои руки.
Выглядело это настолько комично, что я расхохотался.
— Нет, серьёзно, как это делается? — переспросил я.
— Я же тебе показал, — отрезал дон Хуан. — В принципе можешь смотреть на что хочешь — на свои ноги, на свой живот, хоть на свой нос, в конце концов. Я советую смотреть на руки только потому, что мне лично так было легче всего.
Только не думай, что это шуточки. Сновидение — это так же серьёзно, как видение, как смерть, как все, что происходит в этом жутком таинственном мире. Пускай для тебя это будет увлекательной тренировкой. Представь себе все самые невероятные вещи, которые ты мог бы совершить
— На этом самом месте я научу тебя формировать сновидение.
Он опять взглянул на меня и спросил, знаю ли я, о чем идёт речь. Я не знал. Я вообще почти ничего не понимал. Он объяснил, что формировать сновидение — значит точно и жёстко управлять общим ходом сна, целенаправленно формируя возникающую в нем ситуацию, подобно тому, как человек управляет своими действиями, например, идя по пустыне и решая, скажем, взобраться на холм или укрыться в тени скал водного каньона.
— Начинать следует с какого-нибудь простого действия, — сказал дон Хуан. — Сегодня ночью во сне посмотри на свои руки.
Я громко рассмеялся. В его интерпретации это звучало так, словно речь шла о чем-то обычном, что я делаю изо дня в день.
— Почему ты смеёшься? — удивился он.
— Как, интересно, во сне можно посмотреть на собственные руки?
— Очень просто: перевести на них взгляд. Вот так.
И он наклонил голову и, разинув рот, уставился на свои руки.
Выглядело это настолько комично, что я расхохотался.
— Нет, серьёзно, как это делается? — переспросил я.
— Я же тебе показал, — отрезал дон Хуан. — В принципе можешь смотреть на что хочешь — на свои ноги, на свой живот, хоть на свой нос, в конце концов. Я советую смотреть на руки только потому, что мне лично так было легче всего.
Только не думай, что это шуточки. Сновидение — это так же серьёзно, как видение, как смерть, как все, что происходит в этом жутком таинственном мире. Пускай для тебя это будет увлекательной тренировкой. Представь себе все самые невероятные вещи, которые ты мог бы совершить
Возможности того, кто охотится за силой, в сновидении почти безграничны
— Каждый раз, когда ты смотришь во сне на какой-нибудь объект, он меняет форму, — произнёс он после долгой паузы. — Когда учишься формировать сновидение, весь фокус заключается в том, чтобы не просто посмотреть на объект, а удержать его изображение
Сновидение становится реальностью тогда, когда человек обретает способность фокусировать глаза на любом объекте
Тогда нет разницы между тем, что делаешь, когда спишь, и тем, что делаешь, когда бодрствуешь. Понимаешь?
Я ответил, что слова его мне понятны, но принять то, что он сказал, я не в состоянии. В цивилизованном мире масса людей страдает разными маниями. Такие люди не в состоянии провести грань между реальными событиями и тем, что происходит в их болезненных фантазиях. Я сказал, что все они, вне всякого сомнения, больны, и с каждым разом, когда он советует мне действовать подобно сумасшедшему, мне становится все более и более не по себе.
После моей тирады дон Хуан обхватил щеки ладонями и тяжело вздохнул, изображая отчаяние. Получилось довольно смешно.
— Слушай, оставь ты в покое свой цивилизованный мир. Ну его! Никто тебя не просит уподобляться психу. Я же говорил тебе: воин охотится за силами, и он не справится с ними, если не будет безупречно совершенен. Разве воин не в состоянии разобраться, что есть что? А с другой стороны, ты, приятель, в мгновение ока запутаешься и погибнешь, если жизнь твоя окажется в зависимости от твоей способности отличить реальное от нереального. Хотя ты и уверен, что знаешь, что такое есть этот твой реальный мир.
Очевидно, мне не удалось точно выразить свою мысль. Просто каждый раз, когда я начинал возражать, во мне говорило ощущение невыносимого внутреннего разлада из-за понимания несостоятельности моей позиции.
— Я же вовсе не пытаюсь сделать тебя больным, помешанным, — продолжал дон Хуан. — Этого ты с успехом можешь добиться и без моей помощи. Но силы, которые ведут по миру каждого из нас, привели тебя ко мне, и я пытался тебя научить способу действия, с помощью которого ты смог бы изменить свой дурацкий образ жизни, и начать жить, как подобает охотнику — жизнью твёрдой и чистой. Потом силы ещё раз направили тебя и дали мне понять, что я должен учить тебя дальше, чтобы ты научился жить безупречной жизнью воина. Похоже, ты на это не способен. Но кто может сказать наверняка?
Я ответил, что слова его мне понятны, но принять то, что он сказал, я не в состоянии. В цивилизованном мире масса людей страдает разными маниями. Такие люди не в состоянии провести грань между реальными событиями и тем, что происходит в их болезненных фантазиях. Я сказал, что все они, вне всякого сомнения, больны, и с каждым разом, когда он советует мне действовать подобно сумасшедшему, мне становится все более и более не по себе.
После моей тирады дон Хуан обхватил щеки ладонями и тяжело вздохнул, изображая отчаяние. Получилось довольно смешно.
— Слушай, оставь ты в покое свой цивилизованный мир. Ну его! Никто тебя не просит уподобляться психу. Я же говорил тебе: воин охотится за силами, и он не справится с ними, если не будет безупречно совершенен. Разве воин не в состоянии разобраться, что есть что? А с другой стороны, ты, приятель, в мгновение ока запутаешься и погибнешь, если жизнь твоя окажется в зависимости от твоей способности отличить реальное от нереального. Хотя ты и уверен, что знаешь, что такое есть этот твой реальный мир.
Очевидно, мне не удалось точно выразить свою мысль. Просто каждый раз, когда я начинал возражать, во мне говорило ощущение невыносимого внутреннего разлада из-за понимания несостоятельности моей позиции.
— Я же вовсе не пытаюсь сделать тебя больным, помешанным, — продолжал дон Хуан. — Этого ты с успехом можешь добиться и без моей помощи. Но силы, которые ведут по миру каждого из нас, привели тебя ко мне, и я пытался тебя научить способу действия, с помощью которого ты смог бы изменить свой дурацкий образ жизни, и начать жить, как подобает охотнику — жизнью твёрдой и чистой. Потом силы ещё раз направили тебя и дали мне понять, что я должен учить тебя дальше, чтобы ты научился жить безупречной жизнью воина. Похоже, ты на это не способен. Но кто может сказать наверняка?
Мы так же таинственны и так же страшны, как этот непостижимый мир. И кто сможет с уверенностью сказать, на что ты способен, а на что — нет?
В тоне дона Хуана явственно сквозила печаль. Я хотел было извиниться, но он снова заговорил:
— Вовсе не обязательно смотреть именно на руки. Выбери что-нибудь другое, но выбери заранее, а потом, когда уснёшь, — найди во сне то, что выбрал. Я посоветовал выбирать руки, потому что они всегда при тебе. Когда они начнут терять форму, отведи от них взгляд и посмотри на что-нибудь другое, а потом опять — на руки. На то, чтобы в совершенстве освоить этот приём, требуется время, много времени
— Вовсе не обязательно смотреть именно на руки. Выбери что-нибудь другое, но выбери заранее, а потом, когда уснёшь, — найди во сне то, что выбрал. Я посоветовал выбирать руки, потому что они всегда при тебе. Когда они начнут терять форму, отведи от них взгляд и посмотри на что-нибудь другое, а потом опять — на руки. На то, чтобы в совершенстве освоить этот приём, требуется время, много времени
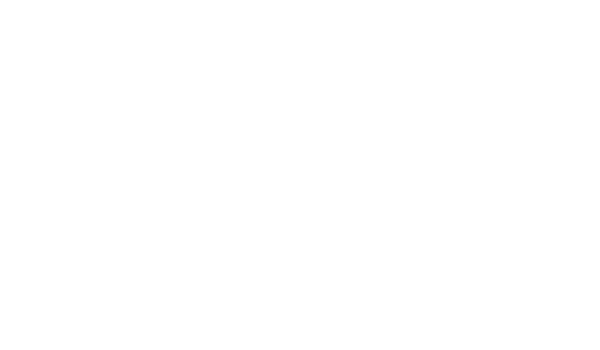
Дон Хуан повернулся на юг и принялся обшаривать глазами местность.
— Вон там! — шёпотом сказал он и указал на что-то, лежавшее на земле.
Я напряг зрение. Метрах в шести от нас что-то лежало на земле. Оно было светло-коричневого цвета. Когда я на него посмотрел, оно задрожало. Я сосредоточил на нём всё своё внимание. «Это» было почти круглым, словно кто-то лежал, свернувшись калачиком. Совсем как собака.
— Что это? — шёпотом спросил я у дона Хуана.
— Не знаю, — точно так же шёпотом ответил он, всматриваясь в «это». — Как ты думаешь, на что оно похоже?
— На собаку.
— Великовато для собаки.
Я сделал к «этому» пару шагов, но дон Хуан слегка дёрнул меня за рукав. Я снова принялся всматриваться в «это». Определённо — какое-то животное. То ли спит, то ли умерло. Я почти различал голову с острыми, как у волка, ушами. К тому моменту я уже был в полной уверенности, что перед нами — какое-то животное, которое лежит, свернувшись калачиком. Я решил, что это, возможно, бурый телёнок, и шёпотом сообщил об этом дону Хуану. Он ответил, что животное слишком мало для телёнка, и, кроме того, у него острые уши.
Животное ещё раз вздрогнуло, и я понял, что оно живое. Я видел, как оно дышит, хотя дыхание это не было ритмичным. Оно делало вздохи, скорее походившие на неравномерные спазмы. И тут меня осенило.
— Это животное умирает, — прошептал я дону Хуану.
— Ты прав, — шёпотом ответил он. — Но что это за животное?
Я не мог различить никаких характерных признаков. Дон Хуан сделал в направлении него пару осторожных шагов. Я — за ним. Было уже довольно темно, и мы сделали ещё два шага, чтобы рассмотреть животное.
— Осторожно! — прошептал дон Хуан мне на ухо. — Если оно умирает, то может броситься на одного из нас из последних сил.
Но зверь, казалось, находился на последнем издыхании. Дыхание его было неравномерным, тело спазматически вздрагивало. Но лежал он по-прежнему свернувшись. Однако в какой-то момент страшный спазм потряс все его тело, буквально подбросив зверя на месте. Я услышал дикий вопль, и зверь вытянул лапы с устрашающими когтями. От этого зрелища меня затошнило. Дёрнувшись ещё раз, зверь завалился набок, а затем опрокинулся на спину.
Я услышал душераздирающий стон зверя и крик дона Хуана:
— Беги! Спасайся!
Что я и исполнил незамедлительно. С невероятной быстротой и ловкостью я кинулся взбираться на макушку холма. На полпути оглянувшись, увидел, что дон Хуан стоит там же, где стоял. Знаком он позвал меня. Я бегом бросился вниз.
— Что случилось? — спросил я, подбежав к нему.
— Похоже, зверь умер, — ответил он.
Мы осторожно приблизились к зверю. Он, вытянувшись, лежал на спине. Подойдя поближе, я чуть не заорал от страха. Зверь был ещё жив. Тело всё ещё вздрагивало, торчавшие вверх лапы дико дёргались. Это явно была агония.
Я шёл впереди дона Хуана. Ещё один спазм встряхнул тело зверя, и я увидел его голову. В диком ужасе я оглянулся на дона Хуана. Судя по телу, животное явно было млекопитающим. Но у него был огромный птичий клюв!
Я смотрел на зверя в полнейшем ужасе. Ум отказывался верить тому, что видели глаза. Я был оглушён, подавлен. Я не мог вымолвить ни слова. Никогда в жизни мне не приходилось встречаться ни с чем подобным. Перед моими глазами находилось нечто абсолютно невозможное. Я хотел попросить дона Хуана объяснить мне, что за невероятное явление — этот зверь, но получилось лишь нечленораздельное мычание.
Дон Хуан смотрел на меня. Я взглянул на него, потом на зверя, и вдруг что-то во мне переключилось и перестроило мир. Я сразу понял, что это за зверь. Я подошёл к нему и подобрал его. Это была большая ветка. Она обгорела, и в ней запуталась сухая трава и всякий мусор, что сделало её похожей на крупного зверя с округлым телом. На фоне зелени цвет обгоревшего мусора воспринимался как светло-бурый.
Я засмеялся по поводу своего идиотизма и возбуждённо объяснил дону Хуану, что ветер шевелил то, что запуталось в этой ветке и что делало её похожей на живого зверя. Я думал, что ему понравится моя разгадка природы таинственного зверя, но он резко повернулся и пошёл к вершине холма. Я последовал за ним. Он заполз в углубление, которое снизу казалось пещерой. Это была всего лишь неглубокая ниша в песчанике.
Дон Хуан набрал мелких веточек и вымел из углубления мусор.
— Нужно избавиться от клещей, — объяснил он.
Знаком он предложил мне сесть и велел устраиваться поудобнее, потому что нам предстояло провести там всю ночь.
Я заговорил было о ветке, но он сделал мне знак замолчать.
— То, что ты сделал, — отнюдь не триумф, — сказал он. — Ты зря растратил прекрасную силу — силу, вдохнувшую жизнь в сухой хворост.
Он сказал, что истинной победой для меня был бы отказ от сопротивления. Мне нужно было довериться силе и следовать за ней до тех пор, пока мир не прекратил бы своё существование. Дон Хуан, похоже, вовсе на меня не сердился и не был расстроен моей неудачей. Он несколько раз повторил, что это — только начало, что управлять силой сразу не научишься. Он потрепал меня по плечу и пошутил, что ещё сегодня я был человеком, знавшим, что реально, а что — нет.
Я был подавлен. Я принялся извиняться за свою склонность быть всегда уверенным в правильности своего подхода.
— Брось, — сказал дон Хуан. — Это неважно. Ветка действительно была зверем, реальным зверем, и этот зверь был жив, когда сила коснулась ветки. И поскольку сила делала его живым, весь фокус состоял в том, чтобы, как в сновидении, сохранять образ зверя как можно дольше. Понял?
— Вон там! — шёпотом сказал он и указал на что-то, лежавшее на земле.
Я напряг зрение. Метрах в шести от нас что-то лежало на земле. Оно было светло-коричневого цвета. Когда я на него посмотрел, оно задрожало. Я сосредоточил на нём всё своё внимание. «Это» было почти круглым, словно кто-то лежал, свернувшись калачиком. Совсем как собака.
— Что это? — шёпотом спросил я у дона Хуана.
— Не знаю, — точно так же шёпотом ответил он, всматриваясь в «это». — Как ты думаешь, на что оно похоже?
— На собаку.
— Великовато для собаки.
Я сделал к «этому» пару шагов, но дон Хуан слегка дёрнул меня за рукав. Я снова принялся всматриваться в «это». Определённо — какое-то животное. То ли спит, то ли умерло. Я почти различал голову с острыми, как у волка, ушами. К тому моменту я уже был в полной уверенности, что перед нами — какое-то животное, которое лежит, свернувшись калачиком. Я решил, что это, возможно, бурый телёнок, и шёпотом сообщил об этом дону Хуану. Он ответил, что животное слишком мало для телёнка, и, кроме того, у него острые уши.
Животное ещё раз вздрогнуло, и я понял, что оно живое. Я видел, как оно дышит, хотя дыхание это не было ритмичным. Оно делало вздохи, скорее походившие на неравномерные спазмы. И тут меня осенило.
— Это животное умирает, — прошептал я дону Хуану.
— Ты прав, — шёпотом ответил он. — Но что это за животное?
Я не мог различить никаких характерных признаков. Дон Хуан сделал в направлении него пару осторожных шагов. Я — за ним. Было уже довольно темно, и мы сделали ещё два шага, чтобы рассмотреть животное.
— Осторожно! — прошептал дон Хуан мне на ухо. — Если оно умирает, то может броситься на одного из нас из последних сил.
Но зверь, казалось, находился на последнем издыхании. Дыхание его было неравномерным, тело спазматически вздрагивало. Но лежал он по-прежнему свернувшись. Однако в какой-то момент страшный спазм потряс все его тело, буквально подбросив зверя на месте. Я услышал дикий вопль, и зверь вытянул лапы с устрашающими когтями. От этого зрелища меня затошнило. Дёрнувшись ещё раз, зверь завалился набок, а затем опрокинулся на спину.
Я услышал душераздирающий стон зверя и крик дона Хуана:
— Беги! Спасайся!
Что я и исполнил незамедлительно. С невероятной быстротой и ловкостью я кинулся взбираться на макушку холма. На полпути оглянувшись, увидел, что дон Хуан стоит там же, где стоял. Знаком он позвал меня. Я бегом бросился вниз.
— Что случилось? — спросил я, подбежав к нему.
— Похоже, зверь умер, — ответил он.
Мы осторожно приблизились к зверю. Он, вытянувшись, лежал на спине. Подойдя поближе, я чуть не заорал от страха. Зверь был ещё жив. Тело всё ещё вздрагивало, торчавшие вверх лапы дико дёргались. Это явно была агония.
Я шёл впереди дона Хуана. Ещё один спазм встряхнул тело зверя, и я увидел его голову. В диком ужасе я оглянулся на дона Хуана. Судя по телу, животное явно было млекопитающим. Но у него был огромный птичий клюв!
Я смотрел на зверя в полнейшем ужасе. Ум отказывался верить тому, что видели глаза. Я был оглушён, подавлен. Я не мог вымолвить ни слова. Никогда в жизни мне не приходилось встречаться ни с чем подобным. Перед моими глазами находилось нечто абсолютно невозможное. Я хотел попросить дона Хуана объяснить мне, что за невероятное явление — этот зверь, но получилось лишь нечленораздельное мычание.
Дон Хуан смотрел на меня. Я взглянул на него, потом на зверя, и вдруг что-то во мне переключилось и перестроило мир. Я сразу понял, что это за зверь. Я подошёл к нему и подобрал его. Это была большая ветка. Она обгорела, и в ней запуталась сухая трава и всякий мусор, что сделало её похожей на крупного зверя с округлым телом. На фоне зелени цвет обгоревшего мусора воспринимался как светло-бурый.
Я засмеялся по поводу своего идиотизма и возбуждённо объяснил дону Хуану, что ветер шевелил то, что запуталось в этой ветке и что делало её похожей на живого зверя. Я думал, что ему понравится моя разгадка природы таинственного зверя, но он резко повернулся и пошёл к вершине холма. Я последовал за ним. Он заполз в углубление, которое снизу казалось пещерой. Это была всего лишь неглубокая ниша в песчанике.
Дон Хуан набрал мелких веточек и вымел из углубления мусор.
— Нужно избавиться от клещей, — объяснил он.
Знаком он предложил мне сесть и велел устраиваться поудобнее, потому что нам предстояло провести там всю ночь.
Я заговорил было о ветке, но он сделал мне знак замолчать.
— То, что ты сделал, — отнюдь не триумф, — сказал он. — Ты зря растратил прекрасную силу — силу, вдохнувшую жизнь в сухой хворост.
Он сказал, что истинной победой для меня был бы отказ от сопротивления. Мне нужно было довериться силе и следовать за ней до тех пор, пока мир не прекратил бы своё существование. Дон Хуан, похоже, вовсе на меня не сердился и не был расстроен моей неудачей. Он несколько раз повторил, что это — только начало, что управлять силой сразу не научишься. Он потрепал меня по плечу и пошутил, что ещё сегодня я был человеком, знавшим, что реально, а что — нет.
Я был подавлен. Я принялся извиняться за свою склонность быть всегда уверенным в правильности своего подхода.
— Брось, — сказал дон Хуан. — Это неважно. Ветка действительно была зверем, реальным зверем, и этот зверь был жив, когда сила коснулась ветки. И поскольку сила делала его живым, весь фокус состоял в том, чтобы, как в сновидении, сохранять образ зверя как можно дольше. Понял?
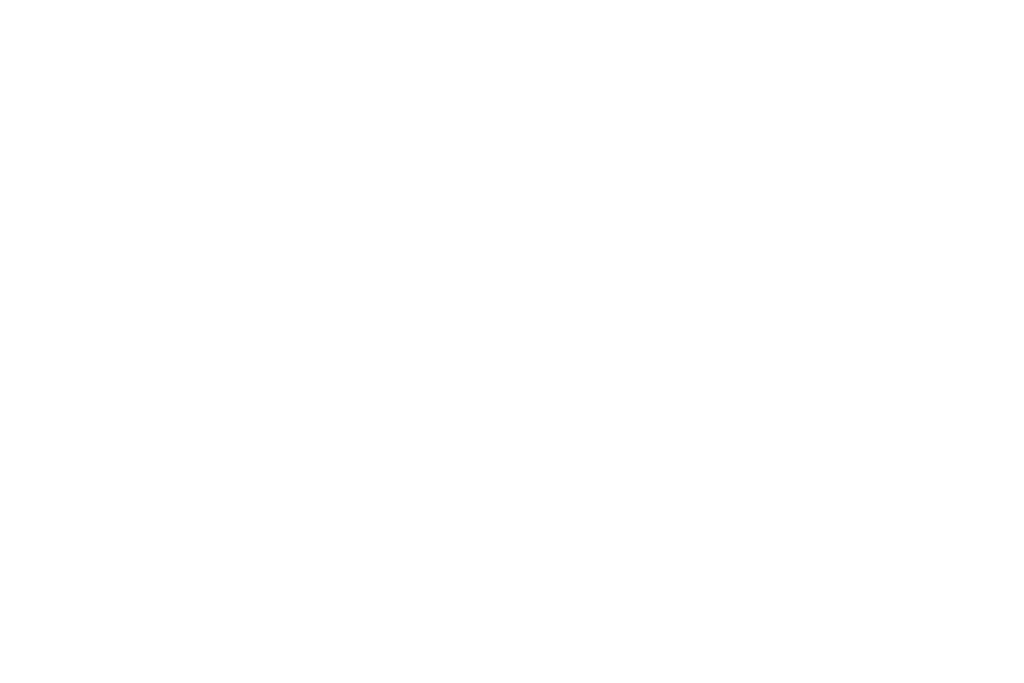
Я хотел его ещё о чем-то спросить, но он снова велел мне молчать. Я должен молчать всю ночь. Но не спать. А говорить сегодня будет только он, и то — недолго.
Дух знает его голос и может оставить нас в покое, если говорить будет только он. Открыться силе — это очень серьёзно. Это действие, которое может повлечь за собой далеко идущие последствия. Сила способна разрушать, и мощь её всесокрушающа, поэтому она может запросто уничтожить того, кто бездумно ей откроется. Обращаться с силой нужно предельно аккуратно. Открываться ей следует постепенно, систематически и всегда очень осторожно.
Нужно заявить о своём присутствии, изображая громкий разговор или делая что-то другое, производящее много шума. А потом нужно долго сохранять молчание и неподвижность. Если шумное активное действие сознательно сменяется безмолвной неподвижностью, и если и то, и другое находится под полным контролем, сила знает — она имеет дело с воином, ибо это — его признаки.
Я должен был ещё хотя бы некоторое время сохранять образ живого чудовища. Спокойно, полностью себя контролируя, не теряя головы и не сходя с ума от возбуждения и страха, я должен был постараться «остановить мир». После того, как я бежал на холм, искренне веря, что спасаю свою жизнь, состояние моё было идеальным — как раз таким, в котором «останавливают мир». В нем соединились страх, благоговение, сила и смерть. Дон Хуан сказал, что ещё раз ввести меня в это состояние будет до невозможного трудно.
Я прошептал ему в самое ухо:
— Дон Хуан, что ты имеешь в виду, говоря «остановить мир»?
Прежде чем ответить, дон Хуан яростно взглянул на меня. Но потом объяснил, что «остановка мира» — это приём, которым пользуется тот, кто охотится за силой. Приём, результатом применения которого становится крушение мира. Мир в том виде, в каком мы его знаем, рушится и прекращает своё существование
Дух знает его голос и может оставить нас в покое, если говорить будет только он. Открыться силе — это очень серьёзно. Это действие, которое может повлечь за собой далеко идущие последствия. Сила способна разрушать, и мощь её всесокрушающа, поэтому она может запросто уничтожить того, кто бездумно ей откроется. Обращаться с силой нужно предельно аккуратно. Открываться ей следует постепенно, систематически и всегда очень осторожно.
Нужно заявить о своём присутствии, изображая громкий разговор или делая что-то другое, производящее много шума. А потом нужно долго сохранять молчание и неподвижность. Если шумное активное действие сознательно сменяется безмолвной неподвижностью, и если и то, и другое находится под полным контролем, сила знает — она имеет дело с воином, ибо это — его признаки.
Я должен был ещё хотя бы некоторое время сохранять образ живого чудовища. Спокойно, полностью себя контролируя, не теряя головы и не сходя с ума от возбуждения и страха, я должен был постараться «остановить мир». После того, как я бежал на холм, искренне веря, что спасаю свою жизнь, состояние моё было идеальным — как раз таким, в котором «останавливают мир». В нем соединились страх, благоговение, сила и смерть. Дон Хуан сказал, что ещё раз ввести меня в это состояние будет до невозможного трудно.
Я прошептал ему в самое ухо:
— Дон Хуан, что ты имеешь в виду, говоря «остановить мир»?
Прежде чем ответить, дон Хуан яростно взглянул на меня. Но потом объяснил, что «остановка мира» — это приём, которым пользуется тот, кто охотится за силой. Приём, результатом применения которого становится крушение мира. Мир в том виде, в каком мы его знаем, рушится и прекращает своё существование
Глава 11. Настроение воина
Дон Хуан сказал, что я человек. И, как любой человек, заслуживаю всего, что составляет человеческую судьбу — радости, боли, печали и борьбы. Но природа поступков человека не имеет значения, если он действует как подобает воину.
Понизив голос почти до шёпота, дон Хуан сказал, что если я действительно чувствую, что дух мой искорёжен, мне нужно просто укрепить его — очистить и сделать совершенным
Понизив голос почти до шёпота, дон Хуан сказал, что если я действительно чувствую, что дух мой искорёжен, мне нужно просто укрепить его — очистить и сделать совершенным
Укрепление духа — единственное, ради чего действительно стоит жить
Не действовать ради укрепления духа — значит стремиться к смерти, а стремиться к смерти — значит не стремиться ни к чему вообще, потому что к ней в лапы каждый из нас попадает независимо ни от чего.
Его слова подействовали, как катализатор. Я вдруг разом ощутил груз всех своих прошлых поступков. Тяжесть его была невыносима. Непреодолимым препятствием они лежали на моем пути, и я чувствовал, что это — безнадёжно. Всхлипывая, я заговорил о своей жизни. Я так долго скитался без цели, что сделался нечувствительным к боли и печали, и что меня пронимает лишь в редких случаях, когда я осознаю своё одиночество и свою беспомощность.
— Одинокий лист на ветру… Да? — произнёс дон Хуан, неподвижно глядя на меня.
Он очень точно выразил моё состояние. Я чувствовал себя именно так. И дон Хуан, похоже, тоже проникся этим ощущением. Он сказал, что моё настроение напомнило ему одну песню, и начал тихонько напевать. Он пел очень приятным голосом. Слова песни унесли меня куда-то далеко-далеко:
Рождён в небесах,
Но сегодня я
Так далеко от них.
И мысли мои
Полны безграничной тоской.
Одинок и печален,
Как лист на ветру,
Я порою готов рыдать,
А порой — смеяться,
Забыв обо всем,
От стремления
Что-то искать.
Мы долго молчали. Наконец, он заговорил:
— С того самого дня, когда ты родился, каждый, с кем сталкивала тебя жизнь, так или иначе что-то с тобой делал.
— Это верно, — согласился я.
— И делали это с тобой против твоей воли.
— Да.
— А теперь ты беспомощен, как лист на ветру.
— Да. Так и есть.
Я сказал, что обстоятельства моей жизни иногда складывались поистине невыносимо жестоко. Дон Хуан выслушал меня очень внимательно, однако я не мог понять, то ли он делает это просто от сочувствия, то ли что-то его действительно весьма заинтересовало. Я терялся в догадках, пока не заметил, что он пытается спрятать улыбку.
— Тебе очень нравится себя жалеть. Я понимаю. Но, как бы тебя это ни тешило, от этой привычки придётся избавиться, — мягко сказал он
— Одинокий лист на ветру… Да? — произнёс дон Хуан, неподвижно глядя на меня.
Он очень точно выразил моё состояние. Я чувствовал себя именно так. И дон Хуан, похоже, тоже проникся этим ощущением. Он сказал, что моё настроение напомнило ему одну песню, и начал тихонько напевать. Он пел очень приятным голосом. Слова песни унесли меня куда-то далеко-далеко:
Рождён в небесах,
Но сегодня я
Так далеко от них.
И мысли мои
Полны безграничной тоской.
Одинок и печален,
Как лист на ветру,
Я порою готов рыдать,
А порой — смеяться,
Забыв обо всем,
От стремления
Что-то искать.
Мы долго молчали. Наконец, он заговорил:
— С того самого дня, когда ты родился, каждый, с кем сталкивала тебя жизнь, так или иначе что-то с тобой делал.
— Это верно, — согласился я.
— И делали это с тобой против твоей воли.
— Да.
— А теперь ты беспомощен, как лист на ветру.
— Да. Так и есть.
Я сказал, что обстоятельства моей жизни иногда складывались поистине невыносимо жестоко. Дон Хуан выслушал меня очень внимательно, однако я не мог понять, то ли он делает это просто от сочувствия, то ли что-то его действительно весьма заинтересовало. Я терялся в догадках, пока не заметил, что он пытается спрятать улыбку.
— Тебе очень нравится себя жалеть. Я понимаю. Но, как бы тебя это ни тешило, от этой привычки придётся избавиться, — мягко сказал он
В жизни воина нет места для жалости к себе
Он засмеялся и ещё раз пропел песню, слегка изменив интонацию. В результате получился нелепый плаксиво-сентиментальный куплет. Дон Хуан сказал, что мне эта песня понравилась именно потому, что всю свою жизнь я только тем и занимался, что выискивал во всем недостатки, жаловался и ныл. Спорить с ним я не мог. Он был прав. Но, тем не менее, я полагал, что у меня все же достаточно оснований к тому, чтобы чувствовать себя подобно сорванному ветром одинокому листу.
— Нет в мире ничего более трудного, чем принять настроение воина, — сказал дон Хуан. — Бесполезно пребывать в печали и ныть, чувствуя себя вправе этим заниматься, и верить, что кто-то другой что-то делает с нами. Никто ничего не делает ни с кем, и особенно — с воином. Сейчас ты здесь, со мной. Почему? Потому что ты этого хочешь. Тебе пора было бы уже принять на себя всю полноту ответственности за свои действия. В свете этого идея относительно одинокого листа и воли ветра не имеет права на существование.
— Жалость к себе несовместима с силой, — продолжал он. — В настроении воина полный самоконтроль и абсолютное самообладание соединяются с отрешённостью, то есть с полным самоотречением
— Нет в мире ничего более трудного, чем принять настроение воина, — сказал дон Хуан. — Бесполезно пребывать в печали и ныть, чувствуя себя вправе этим заниматься, и верить, что кто-то другой что-то делает с нами. Никто ничего не делает ни с кем, и особенно — с воином. Сейчас ты здесь, со мной. Почему? Потому что ты этого хочешь. Тебе пора было бы уже принять на себя всю полноту ответственности за свои действия. В свете этого идея относительно одинокого листа и воли ветра не имеет права на существование.
— Жалость к себе несовместима с силой, — продолжал он. — В настроении воина полный самоконтроль и абсолютное самообладание соединяются с отрешённостью, то есть с полным самоотречением
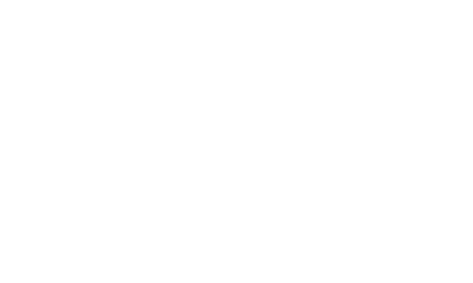
Дон Хуан улёгся на спину, накрыл лицо шляпой и заговорил, не глядя на меня:
— Я хочу напомнить тебе все приёмы, которые ты должен практиковать для формирования сновидения.
Сначала фокусируешь взгляд на руках. Это — отправная точка.
Затем начинаешь переводить взгляд на другие объекты, на очень короткое время фиксируя его на них. Постарайся бросить такой короткий взгляд на максимальное количество объектов.
Помни: если ты будешь только коротко взглядывать на объекты, они не начнут сдвигаться.
Потом снова вернись к своим рукам. Каждый раз, когда ты возвращаешься к своим рукам, ты восстанавливаешь силу, необходимую для продолжения сновидения. Поэтому вначале не нужно смотреть сразу на множество объектов. На первый раз четырёх будет достаточно. Потом ты постепенно сможешь увеличить их количество, и в конце концов будешь в состоянии разглядывать всё, что захочешь.
Но всегда, как только начинаешь терять контроль, — возвращайся к рукам.
Когда ты почувствуешь, что можешь смотреть на что угодно сколько захочешь, знай — ты готов к освоению следующего шага.
Вторым шагом является приём, которому я научу тебя сейчас. Но применять его, я надеюсь, ты станешь только тогда, когда будешь готов.
Минут пятнадцать он лежал молча. Наконец, он сел и посмотрел на меня.
— Следующим шагом в формировании сновидения является обучение перемещению в пространстве, — продолжал он.
— Тем же способом, каким ты научился смотреть на руки, ты заставляешь себя двигаться, перемещаться в пространстве.
Сначала определи место, в которое ты хотел бы попасть. Выбирай места, которые хорошо знаешь, — университет, соседний парк, дом кого-нибудь из твоих друзей, а потом пожелай попасть в выбранное место.
Этот приём очень сложный.
Он состоит из двух частей.
Первая: волевым усилием заставить себя переместиться туда, куда наметил.
Вторая: проконтролировать точное время своего путешествия.
Записывая его слова, я почувствовал, что определённо рехнулся, поскольку совершенно серьёзно конспектировал инструкции, представлявшие собой натуральный бред сумасшедшего. Чтобы их выполнить, мне пришлось бы каким-то немыслимым способом выбраться из самого себя. Меня в очередной раз охватило замешательство и сожаление о том, что я во всё это ввязался.
— Что ты со мной делаешь, дон Хуан? — невольно вырвалось у меня. Он, похоже, удивился. Некоторое время он пристально смотрел на меня, а потом улыбнулся.
— Слушай, сколько раз можно задавать один и тот же вопрос? Ничего я с тобой не делаю. Ты открываешься силе, ты за ней охотишься. А я только помогаю тебе, задаю, так сказать, направление
— Я хочу напомнить тебе все приёмы, которые ты должен практиковать для формирования сновидения.
Сначала фокусируешь взгляд на руках. Это — отправная точка.
Затем начинаешь переводить взгляд на другие объекты, на очень короткое время фиксируя его на них. Постарайся бросить такой короткий взгляд на максимальное количество объектов.
Помни: если ты будешь только коротко взглядывать на объекты, они не начнут сдвигаться.
Потом снова вернись к своим рукам. Каждый раз, когда ты возвращаешься к своим рукам, ты восстанавливаешь силу, необходимую для продолжения сновидения. Поэтому вначале не нужно смотреть сразу на множество объектов. На первый раз четырёх будет достаточно. Потом ты постепенно сможешь увеличить их количество, и в конце концов будешь в состоянии разглядывать всё, что захочешь.
Но всегда, как только начинаешь терять контроль, — возвращайся к рукам.
Когда ты почувствуешь, что можешь смотреть на что угодно сколько захочешь, знай — ты готов к освоению следующего шага.
Вторым шагом является приём, которому я научу тебя сейчас. Но применять его, я надеюсь, ты станешь только тогда, когда будешь готов.
Минут пятнадцать он лежал молча. Наконец, он сел и посмотрел на меня.
— Следующим шагом в формировании сновидения является обучение перемещению в пространстве, — продолжал он.
— Тем же способом, каким ты научился смотреть на руки, ты заставляешь себя двигаться, перемещаться в пространстве.
Сначала определи место, в которое ты хотел бы попасть. Выбирай места, которые хорошо знаешь, — университет, соседний парк, дом кого-нибудь из твоих друзей, а потом пожелай попасть в выбранное место.
Этот приём очень сложный.
Он состоит из двух частей.
Первая: волевым усилием заставить себя переместиться туда, куда наметил.
Вторая: проконтролировать точное время своего путешествия.
Записывая его слова, я почувствовал, что определённо рехнулся, поскольку совершенно серьёзно конспектировал инструкции, представлявшие собой натуральный бред сумасшедшего. Чтобы их выполнить, мне пришлось бы каким-то немыслимым способом выбраться из самого себя. Меня в очередной раз охватило замешательство и сожаление о том, что я во всё это ввязался.
— Что ты со мной делаешь, дон Хуан? — невольно вырвалось у меня. Он, похоже, удивился. Некоторое время он пристально смотрел на меня, а потом улыбнулся.
— Слушай, сколько раз можно задавать один и тот же вопрос? Ничего я с тобой не делаю. Ты открываешься силе, ты за ней охотишься. А я только помогаю тебе, задаю, так сказать, направление
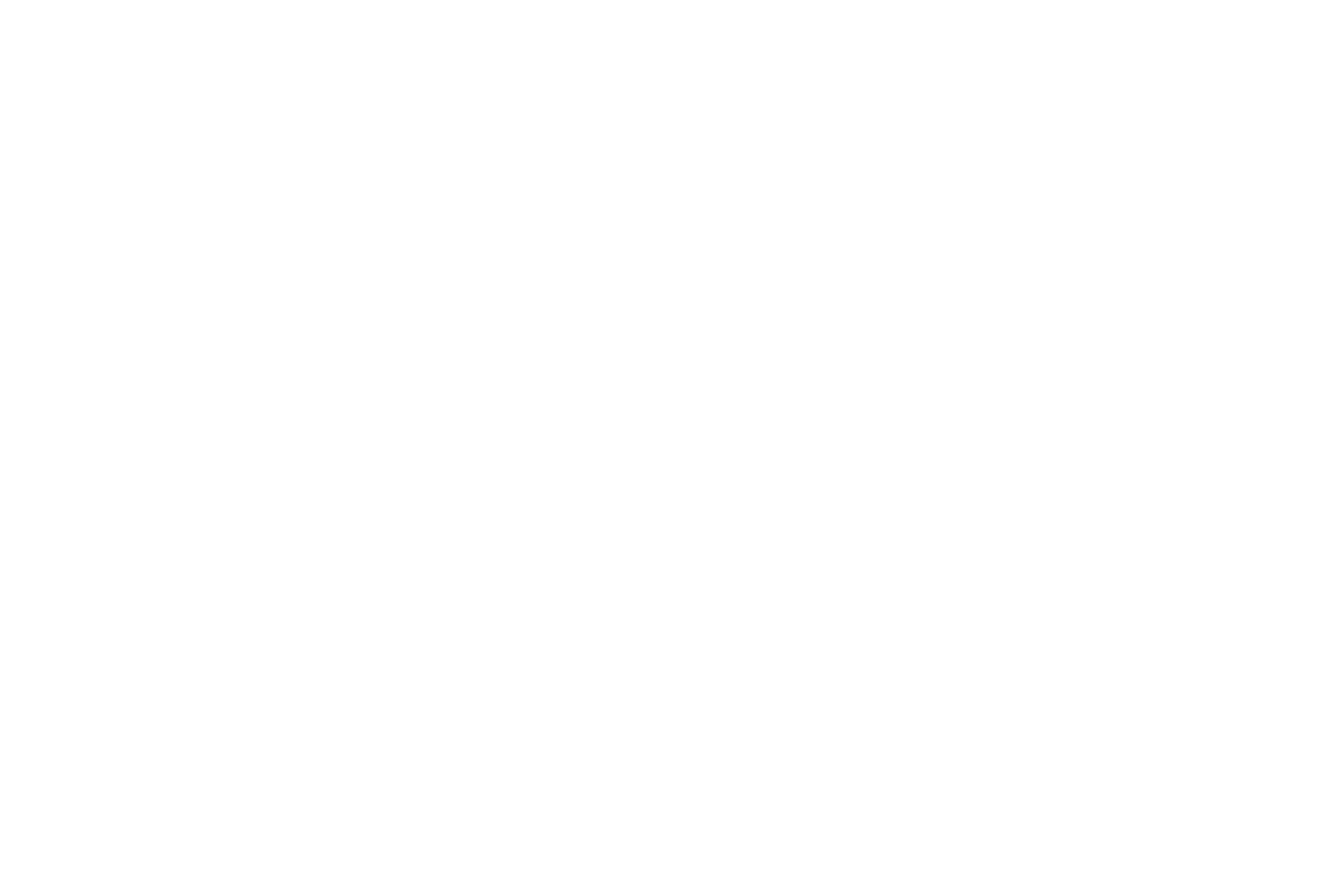
Дон Хуан посмотрел на небо и некоторое время что-то на нем изучал.
— Нам пора, — сухо сообщил он и встал.
Мы направились на восток и к пяти часам вечера пришли к рощице из невысоких деревьев в долине между двумя большими холмами. Дон Хуан небрежно заметил, что нам, возможно, придётся провести там ночь. Он указал на деревья и сказал, что там есть вода.
Он весь напрягся и начал по-звериному принюхиваться. Я видел, как быстро вздрагивают мышцы его живота, расслабляясь и напрягаясь в такт частым коротким вдохам-выдохам. Он велел мне сделать то же и самому определить, где именно находится вода. Я без особой охоты начал подражать его манере дыхания. Минут через пять-шесть у меня уже кружилась голова. Но ноздри странным образом прочистились, и я почувствовал запах речных ив. Однако установить, где они находятся, мне так и не удалось.
Дон Хуан велел мне несколько минут отдохнуть, а потом снова заставил принюхиваться. Второй раунд был более интенсивным. Я ощутил слабый запах речных ив, исходивший откуда-то справа. Мы свернули туда и примерно через полкилометра вышли к болотцу со стоячей водой. Мы обошли его и подошли к немного возвышавшейся над ним плоской горизонтальной площадке. Дальше над площадкой и вокруг неё всё заросло непроходимым сочным чапаралем.
— Это место кишит горными львами и другими кошками поменьше, — как бы между прочим заметил дон Хуан таким тоном, словно речь шла о какой-то самой обычной мелочи.
Я мигом подбежал к нему. Он засмеялся.
— Обычно я стараюсь вообще сюда не заходить, — сказал он. — Но ворона показала именно это направление. Здесь мы должны найти что-то особенное.
— Дон Хуан, нам действительно необходимо здесь находиться?
— Да. Иначе я ни за что не пошёл бы в это место.
Я начал заметно нервничать. Он велел мне слушать внимательно и заговорил:
— Охота на горных львов — единственное, ради чего человек может забраться в это место. Поэтому я должен научить тебя тому, как это делается.
Сначала делают ловушку для водяных крыс, которые служат приманкой. Но изготавливают её особым образом: боковины делают подвижными, а вдоль них вертикально устанавливают очень остро отточенные шипы. Когда клетка стоит, их острия спрятаны. Но когда на клетку падает что-нибудь увесистое, боковины не выдерживают, клетка снимается, а шипы высовываются и пронзают то, что упало на клетку.
Я не мог понять, как это делается, но он нарисовал на земле схему и объяснил, как закрепить на раме вертикальные прутья стенок таким образом, чтобы при возникновении вертикальной нагрузки на её крышу клетка заваливалась бы в одну из сторон.
Шипами в такой конструкции служат остро отточенные прутья из твёрдого дерева, жёстко укреплённые на раме.
Дон Хуан сказал, что во время охоты на горного льва высоко над ловушкой подвешивают большую сетку с тяжёлыми камнями. Над клеткой протягивают верёвку. Вся система устроена так, что стоит только задеть эту верёвку, как все камни из сетки рухнут вниз. Учуяв водяных крыс в клетке, горный лев подходит к ловушке. Обычно он пытается разрушить препятствие ударом передних лап сверху вниз. Вот и в этом случае, чтобы добраться до крыс, он изо всех сил ударяет обеими лапами по крышке клетки. Клетка сминается, и шипы вонзаются ему в лапы. От боли и неожиданности огромная кошка подпрыгивает и цепляет верёвку, обрушивая на себя лавину камней.
— Когда-нибудь тебе может понадобится поймать горного льва, — продолжал дон Хуан. — Они очень сообразительны, и поймать их можно только одним способом — обманув при помощи боли и запаха речных ив.
С поразительной быстротой и сноровкой дон Хуан соорудил ловушку и после довольно долгого ожидания поймал трех щекастых грызунов, похожих на жирных белок.
Он велел мне нарвать охапку веток речных ив на краю болотца и заставил натереть ими одежду. Сам он сделал то же самое. Потом очень быстро и ловко сплёл из тростника две сетки, одну из которых набил водорослями и грязью, которые набрал в болоте. Он принёс её на площадку и спрятался.
Пока он этим занимался, грызуны в клетке начали громко пищать.
Из своего укрытия дон Хуан велел мне взять вторую сетку, набрать в неё побольше грязи и растений из болота и вместе с ней взобраться на нижние ветви дерева, под которым стояла ловушка с грызунами.
Дон Хуан объяснил, что не хочет калечить ни кошку, ни зверьков, поэтому собирается отпугнуть зверя, окатив грязью, когда тот только подойдёт к ловушке. Я должен быть готов сделать то же самое. Он посоветовал мне вести себя как можно внимательнее, чтобы не свалиться с дерева. И напоследок велел мне замереть, буквально слиться с ветвями.
Дона Хуана я не видел. Грызуны визжали все громче. Постепенно стемнело настолько, что я едва угадывал общие очертания местности.
Вдруг послышались мягкие шаги и приглушенное кошачье дыхание, а потом раздался очень мягкий рык. Грызуны замолкли. И тут прямо под деревом я заметил тёмную массу звериного тела. Прежде, чем я смог рассмотреть зверя и убедиться в том, что это — горный лев, он бросился на ловушку. Но добежать до неё не успел: что-то обрушилось на него сверху, и он отскочил. Я швырнул свою сетку, как велел дон Хуан, но не попал. Однако шума наделал много. Тут дон Хуан издал несколько жутких пронзительных воплей, от которых по спине у меня побежали мурашки. Кошка с невообразимой ловкостью метнулась через площадку и скрылась.
Дон Хуан ещё некоторое время продолжал вопить, а потом велел мне как можно быстрее слезть с дерева, взять клетку со зверьками и бежать к нему на площадку.
Через невероятно краткий промежуток времени я уже стоял рядом с доном Хуаном. Он велел мне кричать, как можно точнее имитируя звуки, которые издавал он сам. Это нужно было для того, чтобы держать на расстоянии льва, пока дон Хуан разбирал ловушку и выпускал зверьков.
Я начал было кричать, но получалось плохо. Голос от возбуждения сделался хриплым.
Дон Хуан сказал, что нужно отрешиться от себя и кричать по-настоящему, с чувством, потому что лев всё ещё рядом. И тут я в полной мере оценил ситуацию. Лев-то был вполне реален! И я издал восхитительнейший каскад душераздирающих пронзительных воплей.
Дон Хуан буквально взревел от хохота.
Он дал мне ещё немного покричать, а потом сказал, что теперь нужно как можно тише покинуть это место, потому что лев — не дурак и уже, вероятно, возвращается.
— Он наверняка пойдёт за нами, — сказал дон Хуан. — Как бы аккуратно мы себя ни вели, позади нас все равно останется след шириной с Панамериканское шоссе.
Я шёл совсем рядом с доном Хуаном. Время от времени он на мгновение замирал и прислушивался. Потом в какой-то момент он бросился бежать в темноту. Я — за ним, вытянув перед собой руки, чтобы защитить глаза от веток.
Наконец мы добрались до подножия утёса, на котором сидели днём. Дон Хуан сказал, что если лев не разорвёт нас до того, как мы доберёмся до вершины, то мы спасены. Он начал взбираться первым, показывая путь. Было совсем темно. Непонятно, каким образом мне это удавалось, но я следовал за доном Хуаном очень уверенно. Когда мы были уже недалеко от вершины, я услышал странный звериный крик. Он напоминал коровье мычание, но был более продолжительным и хриплым.
— Быстрее! Быстрее наверх! — заорал дон Хуан. И я в кромешной тьме рванулся к вершине, оставив дона Хуана позади. Когда он добрался до плоской площадки на макушке утёса, я уже сидел там, восстанавливая дыхание.
Дон Хуан рухнул на землю. Я решил было, что напряжение оказалось для него слишком сильным, однако оказалось, что он просто катается по земле от хохота. Его рассмешил мой бросок к вершине.
Мы молча просидели там ещё часа два, потом отправились в обратный путь
— Нам пора, — сухо сообщил он и встал.
Мы направились на восток и к пяти часам вечера пришли к рощице из невысоких деревьев в долине между двумя большими холмами. Дон Хуан небрежно заметил, что нам, возможно, придётся провести там ночь. Он указал на деревья и сказал, что там есть вода.
Он весь напрягся и начал по-звериному принюхиваться. Я видел, как быстро вздрагивают мышцы его живота, расслабляясь и напрягаясь в такт частым коротким вдохам-выдохам. Он велел мне сделать то же и самому определить, где именно находится вода. Я без особой охоты начал подражать его манере дыхания. Минут через пять-шесть у меня уже кружилась голова. Но ноздри странным образом прочистились, и я почувствовал запах речных ив. Однако установить, где они находятся, мне так и не удалось.
Дон Хуан велел мне несколько минут отдохнуть, а потом снова заставил принюхиваться. Второй раунд был более интенсивным. Я ощутил слабый запах речных ив, исходивший откуда-то справа. Мы свернули туда и примерно через полкилометра вышли к болотцу со стоячей водой. Мы обошли его и подошли к немного возвышавшейся над ним плоской горизонтальной площадке. Дальше над площадкой и вокруг неё всё заросло непроходимым сочным чапаралем.
— Это место кишит горными львами и другими кошками поменьше, — как бы между прочим заметил дон Хуан таким тоном, словно речь шла о какой-то самой обычной мелочи.
Я мигом подбежал к нему. Он засмеялся.
— Обычно я стараюсь вообще сюда не заходить, — сказал он. — Но ворона показала именно это направление. Здесь мы должны найти что-то особенное.
— Дон Хуан, нам действительно необходимо здесь находиться?
— Да. Иначе я ни за что не пошёл бы в это место.
Я начал заметно нервничать. Он велел мне слушать внимательно и заговорил:
— Охота на горных львов — единственное, ради чего человек может забраться в это место. Поэтому я должен научить тебя тому, как это делается.
Сначала делают ловушку для водяных крыс, которые служат приманкой. Но изготавливают её особым образом: боковины делают подвижными, а вдоль них вертикально устанавливают очень остро отточенные шипы. Когда клетка стоит, их острия спрятаны. Но когда на клетку падает что-нибудь увесистое, боковины не выдерживают, клетка снимается, а шипы высовываются и пронзают то, что упало на клетку.
Я не мог понять, как это делается, но он нарисовал на земле схему и объяснил, как закрепить на раме вертикальные прутья стенок таким образом, чтобы при возникновении вертикальной нагрузки на её крышу клетка заваливалась бы в одну из сторон.
Шипами в такой конструкции служат остро отточенные прутья из твёрдого дерева, жёстко укреплённые на раме.
Дон Хуан сказал, что во время охоты на горного льва высоко над ловушкой подвешивают большую сетку с тяжёлыми камнями. Над клеткой протягивают верёвку. Вся система устроена так, что стоит только задеть эту верёвку, как все камни из сетки рухнут вниз. Учуяв водяных крыс в клетке, горный лев подходит к ловушке. Обычно он пытается разрушить препятствие ударом передних лап сверху вниз. Вот и в этом случае, чтобы добраться до крыс, он изо всех сил ударяет обеими лапами по крышке клетки. Клетка сминается, и шипы вонзаются ему в лапы. От боли и неожиданности огромная кошка подпрыгивает и цепляет верёвку, обрушивая на себя лавину камней.
— Когда-нибудь тебе может понадобится поймать горного льва, — продолжал дон Хуан. — Они очень сообразительны, и поймать их можно только одним способом — обманув при помощи боли и запаха речных ив.
С поразительной быстротой и сноровкой дон Хуан соорудил ловушку и после довольно долгого ожидания поймал трех щекастых грызунов, похожих на жирных белок.
Он велел мне нарвать охапку веток речных ив на краю болотца и заставил натереть ими одежду. Сам он сделал то же самое. Потом очень быстро и ловко сплёл из тростника две сетки, одну из которых набил водорослями и грязью, которые набрал в болоте. Он принёс её на площадку и спрятался.
Пока он этим занимался, грызуны в клетке начали громко пищать.
Из своего укрытия дон Хуан велел мне взять вторую сетку, набрать в неё побольше грязи и растений из болота и вместе с ней взобраться на нижние ветви дерева, под которым стояла ловушка с грызунами.
Дон Хуан объяснил, что не хочет калечить ни кошку, ни зверьков, поэтому собирается отпугнуть зверя, окатив грязью, когда тот только подойдёт к ловушке. Я должен быть готов сделать то же самое. Он посоветовал мне вести себя как можно внимательнее, чтобы не свалиться с дерева. И напоследок велел мне замереть, буквально слиться с ветвями.
Дона Хуана я не видел. Грызуны визжали все громче. Постепенно стемнело настолько, что я едва угадывал общие очертания местности.
Вдруг послышались мягкие шаги и приглушенное кошачье дыхание, а потом раздался очень мягкий рык. Грызуны замолкли. И тут прямо под деревом я заметил тёмную массу звериного тела. Прежде, чем я смог рассмотреть зверя и убедиться в том, что это — горный лев, он бросился на ловушку. Но добежать до неё не успел: что-то обрушилось на него сверху, и он отскочил. Я швырнул свою сетку, как велел дон Хуан, но не попал. Однако шума наделал много. Тут дон Хуан издал несколько жутких пронзительных воплей, от которых по спине у меня побежали мурашки. Кошка с невообразимой ловкостью метнулась через площадку и скрылась.
Дон Хуан ещё некоторое время продолжал вопить, а потом велел мне как можно быстрее слезть с дерева, взять клетку со зверьками и бежать к нему на площадку.
Через невероятно краткий промежуток времени я уже стоял рядом с доном Хуаном. Он велел мне кричать, как можно точнее имитируя звуки, которые издавал он сам. Это нужно было для того, чтобы держать на расстоянии льва, пока дон Хуан разбирал ловушку и выпускал зверьков.
Я начал было кричать, но получалось плохо. Голос от возбуждения сделался хриплым.
Дон Хуан сказал, что нужно отрешиться от себя и кричать по-настоящему, с чувством, потому что лев всё ещё рядом. И тут я в полной мере оценил ситуацию. Лев-то был вполне реален! И я издал восхитительнейший каскад душераздирающих пронзительных воплей.
Дон Хуан буквально взревел от хохота.
Он дал мне ещё немного покричать, а потом сказал, что теперь нужно как можно тише покинуть это место, потому что лев — не дурак и уже, вероятно, возвращается.
— Он наверняка пойдёт за нами, — сказал дон Хуан. — Как бы аккуратно мы себя ни вели, позади нас все равно останется след шириной с Панамериканское шоссе.
Я шёл совсем рядом с доном Хуаном. Время от времени он на мгновение замирал и прислушивался. Потом в какой-то момент он бросился бежать в темноту. Я — за ним, вытянув перед собой руки, чтобы защитить глаза от веток.
Наконец мы добрались до подножия утёса, на котором сидели днём. Дон Хуан сказал, что если лев не разорвёт нас до того, как мы доберёмся до вершины, то мы спасены. Он начал взбираться первым, показывая путь. Было совсем темно. Непонятно, каким образом мне это удавалось, но я следовал за доном Хуаном очень уверенно. Когда мы были уже недалеко от вершины, я услышал странный звериный крик. Он напоминал коровье мычание, но был более продолжительным и хриплым.
— Быстрее! Быстрее наверх! — заорал дон Хуан. И я в кромешной тьме рванулся к вершине, оставив дона Хуана позади. Когда он добрался до плоской площадки на макушке утёса, я уже сидел там, восстанавливая дыхание.
Дон Хуан рухнул на землю. Я решил было, что напряжение оказалось для него слишком сильным, однако оказалось, что он просто катается по земле от хохота. Его рассмешил мой бросок к вершине.
Мы молча просидели там ещё часа два, потом отправились в обратный путь
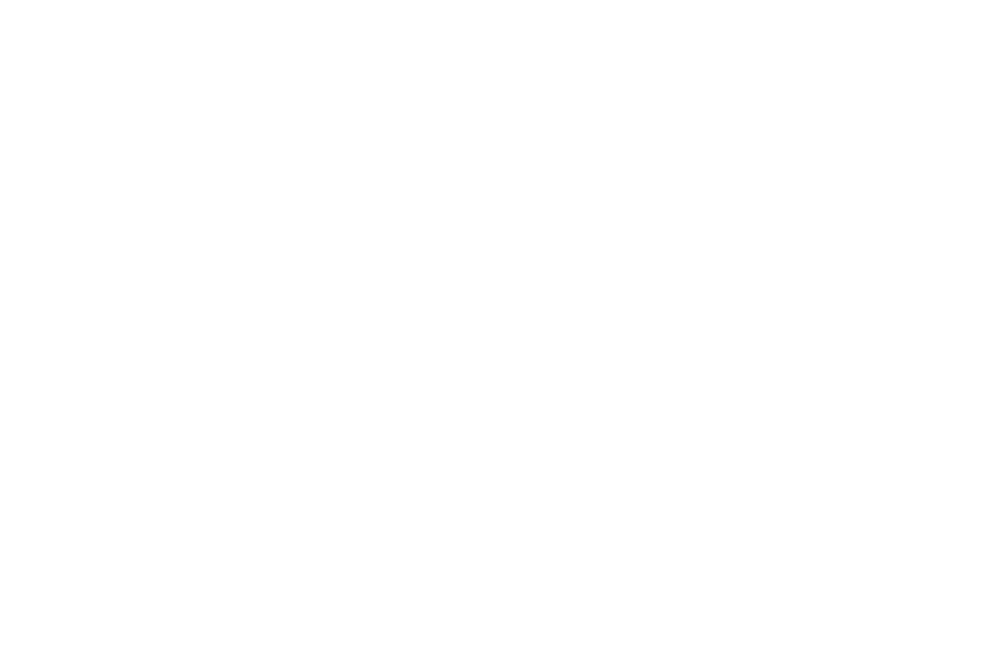
Когда я проснулся, дона Хуана дома не было. До его прихода я успел поработать над своими записями. Когда дон Хуан вошёл, я сказал ему, что история с горным львом сбила меня с толку. Теперь ситуация казалась нереальной, словно дон Хуан подстроил всё это специально для меня.
События сменяли друг друга с такой бешеной скоростью, что у меня просто не было времени на то, чтобы испугаться. Времени было достаточно только на действия, но не на раздумья о складывающихся обстоятельствах. Когда я писал заметки, у меня вдруг возникли сомнения — а действительно ли я видел горного льва? В моей памяти ещё свежа была сухая ветка.
— Это был горный лев, — сказал дон Хуан тоном, отметающим всякие сомнения.
— Что, живой зверь из плоти и крови?
— Разумеется.
Я объяснил, что подозрения возникли у меня из-за того, что всё прошло как-то слишком уж гладко. Лев явился как по заказу, словно он специально нас ожидал и был подготовлен в соответствии со сценарием дона Хуана.
Однако на дона Хуана залп моих скептических замечаний не произвёл ни малейшего впечатления. Он только посмеялся надо мной.
— Смешной ты парень, — сказал он. — Ты же видел кошку собственными глазами. Прямо под деревом, на котором сидел. Она не унюхала тебя и на тебя не бросилась только из-за запаха речной ивы. Он заглушает любой другой запах, а у тебя на коленях лежала целая куча ивовых веток.
Я сказал, что дело не в том, что я сомневаюсь в его честности, а в том, что всё происходившее в ту ночь никоим образом не умещается в рамки обычного течения моей жизни. Когда я писал заметки, у меня даже ненадолго возникло подозрение, что это дон Хуан изображал горного льва. Однако эту идею пришлось отбросить, потому что уж слишком явственно я видел тёмное тело четвероногого зверя, который бросился на клетку, а потом перемахнул через площадку.
— Чего ты мечешься? — спросил дон Хуан. — Это была обыкновенная большая кошка. Тысячи их рыщут в тех горах. Большое дело! Ты, как всегда, обращаешь внимание не на то, на что следует. Не важно, что это было — лев или мои штаны. Имеют значение только твоё состояние и твои чувства в тот момент.
Я никогда в жизни не видел и не слышал большой кошки на воле. И тот факт, что я находился всего в какой-то паре метров от зверя, никак не укладывался у меня в голове.
Дон Хуан терпеливо выслушал все мои соображения по поводу истории с горным львом.
— Слушай, а почему эта большая кошка внушает тебе такой страх? Ты прямо трепещешь перед ней, — довольно ехидно спросил он. — Ведь с такого же расстояния тебе приходилось наблюдать практически всех животных, которые здесь водятся. Но они тебя в такое состояние не приводили. Тебе нравятся кошки?
— Нет.
— А-а-а… Ну тогда забудь о ней. Собственно, урок состоял вовсе не в том, чтобы научиться охотиться на львов.
— А в чём?
— Ворона указала мне на то место возле болота, и там я увидел, каким способом можно заставить тебя понять, что значит «действовать в настроении воина». Вчера ночью, например, ты действовал, находясь в соответствующем настроении. Ты чётко себя контролировал, и в то же время был полностью отрешён, особенно в тот момент, когда спрыгнул с дерева и подбежал ко мне. Ты не был парализован страхом.
А потом, на утёсе, ты действовал вообще превосходно. Я уверен, что ты не поверил бы в то, что совершил, если бы взглянул на тот склон днём. Большая степень отрешённости сочеталась в твоём состоянии с не меньшей степенью самоконтроля.
Ты не бросил всё и не наделал в штаны, и в то же время ты на всё плюнул и взобрался в кромешной темноте на ту стену. Если бы ты случайно сошёл с тропы, ты бы погиб. Чтобы в темноте подняться наверх, тебе необходимо было одновременно себя контролировать и от себя отказаться, бросив самого себя на произвол судьбы. Такое состояние я и называю настроением воина.
Я возразил, что всё, что я совершил прошлой ночью, было результатом моего страха, а вовсе не настроения, соединившего в себе самоконтроль и отрешённость.
— Я знаю, — произнёс он с улыбкой. — И именно поэтому я хотел показать тебе, что ты способен превзойти самого себя, если будешь находиться в нужном настроении
События сменяли друг друга с такой бешеной скоростью, что у меня просто не было времени на то, чтобы испугаться. Времени было достаточно только на действия, но не на раздумья о складывающихся обстоятельствах. Когда я писал заметки, у меня вдруг возникли сомнения — а действительно ли я видел горного льва? В моей памяти ещё свежа была сухая ветка.
— Это был горный лев, — сказал дон Хуан тоном, отметающим всякие сомнения.
— Что, живой зверь из плоти и крови?
— Разумеется.
Я объяснил, что подозрения возникли у меня из-за того, что всё прошло как-то слишком уж гладко. Лев явился как по заказу, словно он специально нас ожидал и был подготовлен в соответствии со сценарием дона Хуана.
Однако на дона Хуана залп моих скептических замечаний не произвёл ни малейшего впечатления. Он только посмеялся надо мной.
— Смешной ты парень, — сказал он. — Ты же видел кошку собственными глазами. Прямо под деревом, на котором сидел. Она не унюхала тебя и на тебя не бросилась только из-за запаха речной ивы. Он заглушает любой другой запах, а у тебя на коленях лежала целая куча ивовых веток.
Я сказал, что дело не в том, что я сомневаюсь в его честности, а в том, что всё происходившее в ту ночь никоим образом не умещается в рамки обычного течения моей жизни. Когда я писал заметки, у меня даже ненадолго возникло подозрение, что это дон Хуан изображал горного льва. Однако эту идею пришлось отбросить, потому что уж слишком явственно я видел тёмное тело четвероногого зверя, который бросился на клетку, а потом перемахнул через площадку.
— Чего ты мечешься? — спросил дон Хуан. — Это была обыкновенная большая кошка. Тысячи их рыщут в тех горах. Большое дело! Ты, как всегда, обращаешь внимание не на то, на что следует. Не важно, что это было — лев или мои штаны. Имеют значение только твоё состояние и твои чувства в тот момент.
Я никогда в жизни не видел и не слышал большой кошки на воле. И тот факт, что я находился всего в какой-то паре метров от зверя, никак не укладывался у меня в голове.
Дон Хуан терпеливо выслушал все мои соображения по поводу истории с горным львом.
— Слушай, а почему эта большая кошка внушает тебе такой страх? Ты прямо трепещешь перед ней, — довольно ехидно спросил он. — Ведь с такого же расстояния тебе приходилось наблюдать практически всех животных, которые здесь водятся. Но они тебя в такое состояние не приводили. Тебе нравятся кошки?
— Нет.
— А-а-а… Ну тогда забудь о ней. Собственно, урок состоял вовсе не в том, чтобы научиться охотиться на львов.
— А в чём?
— Ворона указала мне на то место возле болота, и там я увидел, каким способом можно заставить тебя понять, что значит «действовать в настроении воина». Вчера ночью, например, ты действовал, находясь в соответствующем настроении. Ты чётко себя контролировал, и в то же время был полностью отрешён, особенно в тот момент, когда спрыгнул с дерева и подбежал ко мне. Ты не был парализован страхом.
А потом, на утёсе, ты действовал вообще превосходно. Я уверен, что ты не поверил бы в то, что совершил, если бы взглянул на тот склон днём. Большая степень отрешённости сочеталась в твоём состоянии с не меньшей степенью самоконтроля.
Ты не бросил всё и не наделал в штаны, и в то же время ты на всё плюнул и взобрался в кромешной темноте на ту стену. Если бы ты случайно сошёл с тропы, ты бы погиб. Чтобы в темноте подняться наверх, тебе необходимо было одновременно себя контролировать и от себя отказаться, бросив самого себя на произвол судьбы. Такое состояние я и называю настроением воина.
Я возразил, что всё, что я совершил прошлой ночью, было результатом моего страха, а вовсе не настроения, соединившего в себе самоконтроль и отрешённость.
— Я знаю, — произнёс он с улыбкой. — И именно поэтому я хотел показать тебе, что ты способен превзойти самого себя, если будешь находиться в нужном настроении
Воин сам формирует своё настроение
Ты об этом не знаешь. В этот раз настроение воина возникло у тебя благодаря страху. Но теперь тебе известно состояние, соответствующее настроению воина, и ты можешь воспользоваться чем угодно, чтобы в него войти.
Я хотел начать спорить, но для этого моим мыслям не хватало чёткости. Непонятно почему, мне вдруг стало досадно.
— Очень удобно действовать, всегда находясь в настроении воина, — продолжал дон Хуан. — Оно не даёт цепляться за всякий вздор и позволяет оставаться чистым. Помнишь своё особенное ощущение там, на вершине? Это было здорово, а?
Я сказал, что понимаю, о чем он говорит, однако чувствую, что попытки применить то, чему он меня учит, в повседневной жизни, были бы полным идиотизмом
Я хотел начать спорить, но для этого моим мыслям не хватало чёткости. Непонятно почему, мне вдруг стало досадно.
— Очень удобно действовать, всегда находясь в настроении воина, — продолжал дон Хуан. — Оно не даёт цепляться за всякий вздор и позволяет оставаться чистым. Помнишь своё особенное ощущение там, на вершине? Это было здорово, а?
Я сказал, что понимаю, о чем он говорит, однако чувствую, что попытки применить то, чему он меня учит, в повседневной жизни, были бы полным идиотизмом
Каждый из поступков следует совершать в настроении воина
— Иначе человек уродует себя и делается безобразным. В жизни, которой не хватает настроения воина, отсутствует сила.
Посмотри на себя. Практически всё мешает тебе жить, обижает и выводит из состояния душевного равновесия. Ты распускаешь нюни и ноешь, жалуясь на то, что каждый встречный заставляет тебя плясать под свою дудку. Сорванный лист на ветру! В твоей жизни отсутствует сила. Какое, должно быть, мерзкое чувство!
Воин же, с другой стороны, прежде всего охотник. Он учитывает всё. Это называется контролем. Но закончив свои расчёты, он действует. Он отпускает поводья рассчитанного действия. И оно совершается как бы само собой. Это — отрешённость.
Воин никогда не уподобляется листу, отданному на волю ветра. Никто не может сбить его с пути
Посмотри на себя. Практически всё мешает тебе жить, обижает и выводит из состояния душевного равновесия. Ты распускаешь нюни и ноешь, жалуясь на то, что каждый встречный заставляет тебя плясать под свою дудку. Сорванный лист на ветру! В твоей жизни отсутствует сила. Какое, должно быть, мерзкое чувство!
Воин же, с другой стороны, прежде всего охотник. Он учитывает всё. Это называется контролем. Но закончив свои расчёты, он действует. Он отпускает поводья рассчитанного действия. И оно совершается как бы само собой. Это — отрешённость.
Воин никогда не уподобляется листу, отданному на волю ветра. Никто не может сбить его с пути
Намерение воина непоколебимо, его суждения — окончательны, и никому не под силу заставить его поступать вопреки самому себе
Воин настроен на выживание, и он выживает, выбирая наиболее оптимальный образ действия
Воин настроен на выживание, и он выживает, выбирая наиболее оптимальный образ действия
Мне понравилась его установка, хотя она и была идеалистической. С точки зрения того мира, в котором я жил, она выглядела слишком упрощённой.
Дон Хуан только посмеялся над моими аргументами. Я же продолжал настаивать на том, что настроение воина никак не сможет помочь мне преодолеть обиду и боль, вызванные неблаговидными поступками моих ближних. Я предложил рассмотреть гипотетический случай: меня преследует и по-настоящему изводит, вплоть до физического воздействия, жестокий и злобный негодяй, облечённый властью.
Дон Хуан расхохотался и сказал, что пример вполне удачный
Дон Хуан только посмеялся над моими аргументами. Я же продолжал настаивать на том, что настроение воина никак не сможет помочь мне преодолеть обиду и боль, вызванные неблаговидными поступками моих ближних. Я предложил рассмотреть гипотетический случай: меня преследует и по-настоящему изводит, вплоть до физического воздействия, жестокий и злобный негодяй, облечённый властью.
Дон Хуан расхохотался и сказал, что пример вполне удачный
Воина можно ранить, но обидеть его — невозможно
— Пока воин находится в соответствующем настроении, никакой поступок кого бы то ни было из людей не может его обидеть.
Прошлой ночью лев тебя совсем не обидел, правда? И то, что он преследовал нас, ни капельки тебя не разозлило. Я не слышал от тебя ругательств в его адрес. И ты не возмущался, вопя, что он не имеет права нас преследовать. А ведь этот лев вполне мог оказаться самым жестоким и злобным во всей округе.
Однако вовсе не его характер явился причиной того, что ты действовал так, а не иначе, изо всех сил стараясь избежать встречи с ним. Причина была в тебе самом, и причина была одна — ты хотел выжить. В чём вполне и преуспел.
Если бы ты был один и льву удалось бы до тебя добраться и насмерть тебя задрать, тебе бы и в голову не пришло пожаловаться на него, обидеться или почувствовать себя оскорблённым столь неблаговидным поступком с его стороны. Так что настроение воина не так уж чуждо твоему или чьему бы то ни было ещё миру. Оно необходимо тебе для того, чтобы прорваться сквозь пустопорожний трёп.
Я принялся излагать свои соображения по этому поводу. Льва и людей с моей точки зрения нельзя ставить на одну доску. Ведь о ближних своих я знаю очень много, мне знакомы их типичные уловки, мотивы, мелкие ухищрения. О льве же я не знаю практически ничего. Ведь в действиях моих ближних самым обидным является то, что они злобствуют и делают подлости сознательно.
— Знаю, — терпеливо проговорил дон Хуан. — Достичь состояния воина — очень и очень непросто. Это — революция, переворот в сознании
Прошлой ночью лев тебя совсем не обидел, правда? И то, что он преследовал нас, ни капельки тебя не разозлило. Я не слышал от тебя ругательств в его адрес. И ты не возмущался, вопя, что он не имеет права нас преследовать. А ведь этот лев вполне мог оказаться самым жестоким и злобным во всей округе.
Однако вовсе не его характер явился причиной того, что ты действовал так, а не иначе, изо всех сил стараясь избежать встречи с ним. Причина была в тебе самом, и причина была одна — ты хотел выжить. В чём вполне и преуспел.
Если бы ты был один и льву удалось бы до тебя добраться и насмерть тебя задрать, тебе бы и в голову не пришло пожаловаться на него, обидеться или почувствовать себя оскорблённым столь неблаговидным поступком с его стороны. Так что настроение воина не так уж чуждо твоему или чьему бы то ни было ещё миру. Оно необходимо тебе для того, чтобы прорваться сквозь пустопорожний трёп.
Я принялся излагать свои соображения по этому поводу. Льва и людей с моей точки зрения нельзя ставить на одну доску. Ведь о ближних своих я знаю очень много, мне знакомы их типичные уловки, мотивы, мелкие ухищрения. О льве же я не знаю практически ничего. Ведь в действиях моих ближних самым обидным является то, что они злобствуют и делают подлости сознательно.
— Знаю, — терпеливо проговорил дон Хуан. — Достичь состояния воина — очень и очень непросто. Это — революция, переворот в сознании
Одинаковое отношение ко всему, будь то лев, водяные крысы или люди — одно из величайших достижений духа воина
Глава 12. Битва силы
— Что мы будем делать в этих горах, дон Хуан?
— Ты охотишься за силой.
— Я хотел спросить, чем конкретно мы будем заниматься?
— За силой невозможно охотиться по какому-либо плану. Впрочем, как и за дичью. Охотник охотится на то, что ему попадается. Поэтому он всё время должен находиться в состоянии готовности.
Сила — штука очень любопытная. Её невозможно взять и к чему-нибудь пригвоздить, как-то зафиксировать или сказать, что же это в действительности такое. Она сродни чувству, ощущению, которое возникает у человека в отношении определённых вещей. Сила всегда бывает личной, она принадлежит только кому-то одному.
Мой бенефактор, например, одним лишь взглядом мог заставить человека смертельно заболеть. Стоило ему бросить на женщину такой взгляд, как она увядала и становилась некрасивой. Но это вовсе не значит, что заболевали все, на кого он смотрел. Его взгляд действовал лишь тогда, когда в этом участвовала его личная сила.
— А как он решал, кого сделать больным?
— Не знаю. Он и сам не знал. С силой всегда так. Она командует тобой и в то же время тебе подчиняется. Охотник за силой ловит её, а затем накапливает как свою личную находку. Его личная сила таким образом растёт, и может наступить момент, когда воин, накопив огромную личную силу, станет человеком знания.
— Как накапливают силу, дон Хуан?
— Это тоже что-то вроде ощущения. Характер его определяется типом личности воина. Мой бенефактор был человеком яростным. Он пользовался чувством ярости для накапливания силы. Всё, что он делал, он делал прямо, резко и жёстко. Он оставил в моей памяти ощущение чего-то проламывающегося сквозь, сокрушающего всё, что оказывалось на пути. И всё, что с ним происходило, происходило именно в таком ключе.
Я сказал, что не понимаю, как можно накапливать силу с помощью чувства. Дон Хуан долго молчал.
— Это невозможно объяснить, — сказал он, наконец. — Ты должен сделать это сам.
Обойдя скалу, я увидел очень большую неглубокую пещеру. Она находилась под самой вершиной горы и была похожа на зал в виде балкона с двумя колоннами, возникший вследствие выветривания песчаника.
Дон Хуан сказал, что в этой пещере мы остановимся. Он объяснил, что она безопасна, так как недостаточно глубока для того, чтобы стать логовом горных львов или других хищников, чересчур открыта для того, чтобы быть крысиным гнездом, и слишком сильно продувается ветром для того, чтобы в ней водились опасные насекомые. Дон Хуан засмеялся и сказал, что она — идеальное место для человека, потому что никто другой просто не выдержит в ней долго.
И он, словно горный козёл, метнулся к ней. Мне оставалось только восхищаться его фантастической ловкостью.
Я медленно сполз на ягодицах вниз по скале, а затем по склону горы, и побежал вверх по уступу. Последние несколько метров буквально лишили меня сил.
Я в шутку спросил дона Хуана, сколько же ему на самом деле лет. Я имел в виду, что для того, чтобы добраться до уступа так, как это сделал дон Хуан, нужно было быть очень молодым и отлично тренированным.
— Я молод настолько, насколько хочу, — ответил он. — Это, кстати, тоже связано с личной силой. Если ты накапливаешь силу, тело твоё становится способным на невероятные действия. А если, наоборот, её рассеиваешь, то на глазах превращаешься в жирного слабого старика
— Ты охотишься за силой.
— Я хотел спросить, чем конкретно мы будем заниматься?
— За силой невозможно охотиться по какому-либо плану. Впрочем, как и за дичью. Охотник охотится на то, что ему попадается. Поэтому он всё время должен находиться в состоянии готовности.
Сила — штука очень любопытная. Её невозможно взять и к чему-нибудь пригвоздить, как-то зафиксировать или сказать, что же это в действительности такое. Она сродни чувству, ощущению, которое возникает у человека в отношении определённых вещей. Сила всегда бывает личной, она принадлежит только кому-то одному.
Мой бенефактор, например, одним лишь взглядом мог заставить человека смертельно заболеть. Стоило ему бросить на женщину такой взгляд, как она увядала и становилась некрасивой. Но это вовсе не значит, что заболевали все, на кого он смотрел. Его взгляд действовал лишь тогда, когда в этом участвовала его личная сила.
— А как он решал, кого сделать больным?
— Не знаю. Он и сам не знал. С силой всегда так. Она командует тобой и в то же время тебе подчиняется. Охотник за силой ловит её, а затем накапливает как свою личную находку. Его личная сила таким образом растёт, и может наступить момент, когда воин, накопив огромную личную силу, станет человеком знания.
— Как накапливают силу, дон Хуан?
— Это тоже что-то вроде ощущения. Характер его определяется типом личности воина. Мой бенефактор был человеком яростным. Он пользовался чувством ярости для накапливания силы. Всё, что он делал, он делал прямо, резко и жёстко. Он оставил в моей памяти ощущение чего-то проламывающегося сквозь, сокрушающего всё, что оказывалось на пути. И всё, что с ним происходило, происходило именно в таком ключе.
Я сказал, что не понимаю, как можно накапливать силу с помощью чувства. Дон Хуан долго молчал.
— Это невозможно объяснить, — сказал он, наконец. — Ты должен сделать это сам.
Обойдя скалу, я увидел очень большую неглубокую пещеру. Она находилась под самой вершиной горы и была похожа на зал в виде балкона с двумя колоннами, возникший вследствие выветривания песчаника.
Дон Хуан сказал, что в этой пещере мы остановимся. Он объяснил, что она безопасна, так как недостаточно глубока для того, чтобы стать логовом горных львов или других хищников, чересчур открыта для того, чтобы быть крысиным гнездом, и слишком сильно продувается ветром для того, чтобы в ней водились опасные насекомые. Дон Хуан засмеялся и сказал, что она — идеальное место для человека, потому что никто другой просто не выдержит в ней долго.
И он, словно горный козёл, метнулся к ней. Мне оставалось только восхищаться его фантастической ловкостью.
Я медленно сполз на ягодицах вниз по скале, а затем по склону горы, и побежал вверх по уступу. Последние несколько метров буквально лишили меня сил.
Я в шутку спросил дона Хуана, сколько же ему на самом деле лет. Я имел в виду, что для того, чтобы добраться до уступа так, как это сделал дон Хуан, нужно было быть очень молодым и отлично тренированным.
— Я молод настолько, насколько хочу, — ответил он. — Это, кстати, тоже связано с личной силой. Если ты накапливаешь силу, тело твоё становится способным на невероятные действия. А если, наоборот, её рассеиваешь, то на глазах превращаешься в жирного слабого старика
… меня охватила тревога, и я заорал как можно громче:
— Дон Хуан!
Он вышел из-за кустов. Я мгновенно понял, что он отлично знает, что происходит.
Дон Хуан велел мне сесть на плоскую каменную плиту. Он сказал, что этот камень — объект силы, и что если я немного на нем посижу, силы мои восстановятся.
— Садись! — сухо приказал он.
На лице его не было улыбки. Глаза его были яростными и пронзительными. Я автоматически сел.
Он сказал, что, допуская уныние и плохое настроение, я поступаю неосмотрительно. С силой так вести себя нельзя, и этому необходимо положить конец, иначе сила обернётся против нас, и мы никогда не уйдём живыми из этих безлюдных холмов.
После короткой паузы он как бы между прочим спросил:
— Как у тебя обстоят дела со сновидением?
Я рассказал, как сложно мне стало давать себе команду смотреть на свои руки. Сначала все шло относительно гладко. Может быть, это было обусловлено новизной. Без каких бы то ни было затруднений я вспоминал о том, что нужно приказать себе смотреть на руки. Однако восторг прошёл, и вот уже в течение целого ряда ночей я вообще не мог этого сделать.
— Нужно на ночь надевать головную повязку, — сказал дон Хуан. — Но добыть её не так-то просто. Я не могу тебе её дать, ты должен сделать повязку сам. Из грубой ткани. Но только после того, как увидишь её в сновидении. Понимаешь?
Головную повязку нужно изготовить в строгом соответствии с особым видением. И у неё должна быть поперечная лента, проходящая чётко через макушку головы.
Конечно, ты мог бы ложиться спать в шляпе или, как бенедиктинец, надевать на ночь колпак, но это только интенсифицирует обычные сны, а сновидению способствовать не будет.
Он немного помолчал, а потом быстро и многословно начал объяснять, что видение головной повязки может явиться не только в «сновидении», но и в бодрствующем состоянии в результате какого-нибудь события, не имеющего к ней, казалось бы, никакого отношения. Например, наблюдения полёта птиц, течения воды, облаков или чего-то в таком роде
Охотник за силой наблюдает за всем, и всё, за чем он наблюдает, раскрывает ему какие-нибудь тайны
— Но как убедиться в том, что наблюдаемый тобой объект раскрывает тебе тайну? — спросил я.
Я рассчитывал, что он выдаст мне какую-нибудь формулу, позволяющую делать «правильные» интерпретации.
— Единственный способ убедиться — неукоснительно следовать всем тем инструкциям, которые я давал тебе, начиная с самой первой нашей встречи, — ответил он
Я рассчитывал, что он выдаст мне какую-нибудь формулу, позволяющую делать «правильные» интерпретации.
— Единственный способ убедиться — неукоснительно следовать всем тем инструкциям, которые я давал тебе, начиная с самой первой нашей встречи, — ответил он
Чтобы обладать силой, нужно вести жизнь, наполненную силой
Он снисходительно улыбнулся. Его ярость вроде прошла, он даже слегка подтолкнул меня под локоть:
— Жуй свою пищу, обладающую силой.
Я принялся жевать сушёное мясо, и тут до меня дошло: наверное, в нем содержатся какие-то психотропные вещества. Этим и объясняются мои ночные галлюцинации. На какое-то время я почувствовал облегчение. Если Дон Хуан действительно добавил что-то в мясо, то все миражи, которые я наблюдал, становятся вполне понятным явлением. Я спросил его, добавлялось ли что-то в «мясо силы».
Он засмеялся, но прямо не ответил. Я настаивал, уверяя его в том, что вовсе не сержусь, и даже не чувствую раздражения, а просто хочу это знать, чтобы как-то удовлетворительно с моей точки зрения объяснить события предыдущей ночи. Я требовал, просил и в конце концов начал умолять его сказать мне правду.
— А ты точно — с трещиной, — произнёс он, недоверчиво качая головой. — У тебя есть коварная тенденция. Ты настаиваешь на объяснениях, которые удовлетворяли бы именно тебя. В этом мясе нет ничего, кроме силы. И силу туда не добавлял ни я, ни кто-либо другой. Силой мясо наполнила сама сила. Это — мясо оленя, который был дан мне в качестве дара.
Не так давно таким же даром для тебя явился кролик. К тому кролику ни ты, ни я ничего не добавляли. Я не говорил тебе засушить его мясо, потому что для этого тебе потребовалось бы гораздо больше силы, чем у тебя есть. Но я велел тебе поесть кроличьего мяса. По собственной глупости ты съел тогда слишком мало.
То, что произошло с тобой сегодня ночью, не было ни шуткой, ни чьими-то проделками. У тебя была встреча с силой. Туман, тьма, молнии, гром и дождь были частями великой битвы силы. Дуракам везёт. Воин многое бы отдал за такую битву.
Я возразил, что все событие в целом не могло быть битвой силы, потому что оно не было реальным.
— А что реально? — очень спокойно спросил дон Хуан.
— Вот это, то, на что мы смотрим, — реально, — ответил я, обведя рукой окружавший нас пейзаж.
— Но мост, который ты видел ночью, и лес, и всё остальное — всё было таким же.
— Тогда куда оно все делось? Если все это реально, где оно сейчас?
— Здесь. Если бы ты обладал достаточной силой, ты мог бы вызвать всё, что видел ночью. Вызвать прямо сейчас. Но сейчас ты на это не способен, потому что находишь большую пользу в том, чтобы сомневаться и цепляться за свою реальность. Однако в этом нет никакой пользы, приятель. Никакой.
Прямо здесь, перед нами, расстилаются неисчислимые миры. Они наложены друг на друга, друг друга пронизывают, их множество, и они абсолютно реальны. Если бы ночью я не схватил тебя за руку, ты пошёл бы по мосту, независимо от своего желания. А до этого мне приходилось защищать тебя от ветра, который тебя искал.
— А что бы случилось, если б ты меня не защищал?
— Ты не обладаешь достаточной силой. Поэтому ветер заставил бы тебя заблудиться, и, вероятно, даже убил бы, столкнув в пропасть. Но туман был вполне реален. В нем с тобой могли бы случиться две вещи. Либо ты перешёл бы по мосту на другую сторону, либо ты упал бы и разбился насмерть. Все зависит от силы. Но в одном я уверен — если бы я тебя не защищал, ты пошёл бы по мосту. Несмотря ни на что. Такова природа силы
— Жуй свою пищу, обладающую силой.
Я принялся жевать сушёное мясо, и тут до меня дошло: наверное, в нем содержатся какие-то психотропные вещества. Этим и объясняются мои ночные галлюцинации. На какое-то время я почувствовал облегчение. Если Дон Хуан действительно добавил что-то в мясо, то все миражи, которые я наблюдал, становятся вполне понятным явлением. Я спросил его, добавлялось ли что-то в «мясо силы».
Он засмеялся, но прямо не ответил. Я настаивал, уверяя его в том, что вовсе не сержусь, и даже не чувствую раздражения, а просто хочу это знать, чтобы как-то удовлетворительно с моей точки зрения объяснить события предыдущей ночи. Я требовал, просил и в конце концов начал умолять его сказать мне правду.
— А ты точно — с трещиной, — произнёс он, недоверчиво качая головой. — У тебя есть коварная тенденция. Ты настаиваешь на объяснениях, которые удовлетворяли бы именно тебя. В этом мясе нет ничего, кроме силы. И силу туда не добавлял ни я, ни кто-либо другой. Силой мясо наполнила сама сила. Это — мясо оленя, который был дан мне в качестве дара.
Не так давно таким же даром для тебя явился кролик. К тому кролику ни ты, ни я ничего не добавляли. Я не говорил тебе засушить его мясо, потому что для этого тебе потребовалось бы гораздо больше силы, чем у тебя есть. Но я велел тебе поесть кроличьего мяса. По собственной глупости ты съел тогда слишком мало.
То, что произошло с тобой сегодня ночью, не было ни шуткой, ни чьими-то проделками. У тебя была встреча с силой. Туман, тьма, молнии, гром и дождь были частями великой битвы силы. Дуракам везёт. Воин многое бы отдал за такую битву.
Я возразил, что все событие в целом не могло быть битвой силы, потому что оно не было реальным.
— А что реально? — очень спокойно спросил дон Хуан.
— Вот это, то, на что мы смотрим, — реально, — ответил я, обведя рукой окружавший нас пейзаж.
— Но мост, который ты видел ночью, и лес, и всё остальное — всё было таким же.
— Тогда куда оно все делось? Если все это реально, где оно сейчас?
— Здесь. Если бы ты обладал достаточной силой, ты мог бы вызвать всё, что видел ночью. Вызвать прямо сейчас. Но сейчас ты на это не способен, потому что находишь большую пользу в том, чтобы сомневаться и цепляться за свою реальность. Однако в этом нет никакой пользы, приятель. Никакой.
Прямо здесь, перед нами, расстилаются неисчислимые миры. Они наложены друг на друга, друг друга пронизывают, их множество, и они абсолютно реальны. Если бы ночью я не схватил тебя за руку, ты пошёл бы по мосту, независимо от своего желания. А до этого мне приходилось защищать тебя от ветра, который тебя искал.
— А что бы случилось, если б ты меня не защищал?
— Ты не обладаешь достаточной силой. Поэтому ветер заставил бы тебя заблудиться, и, вероятно, даже убил бы, столкнув в пропасть. Но туман был вполне реален. В нем с тобой могли бы случиться две вещи. Либо ты перешёл бы по мосту на другую сторону, либо ты упал бы и разбился насмерть. Все зависит от силы. Но в одном я уверен — если бы я тебя не защищал, ты пошёл бы по мосту. Несмотря ни на что. Такова природа силы
Сила командует тобой и в то же время тебе подчиняется
Этой ночью, например, она заставила бы тебя взойти на мост. Но потом, подчиняясь тебе, она поддерживала тебя на твоём пути по мосту. Я остановил тебя, так как знаю, что ты не умеешь использовать силу, а без её помощи мост бы разрушился.
— Ты тоже видел этот мост, дон Хуан?
— Нет. Я видел просто силу. Она может быть чем угодно. Например, для тебя в этот раз она была мостом. Почему именно мостом, я не знаю
— Ты тоже видел этот мост, дон Хуан?
— Нет. Я видел просто силу. Она может быть чем угодно. Например, для тебя в этот раз она была мостом. Почему именно мостом, я не знаю
Мы — таинственные существа
— А вообще ты когда-нибудь видел мост в тумане, дон Хуан?
— Никогда. Но это объясняется лишь тем, что я — не такой, как ты. Я видел другое. Мои битвы силы совсем не были похожи на твои.
— А что видел ты, дон Хуан? Можешь рассказать?
— В своей первой битве силы я встретился в тумане со своими врагами. Но у тебя врагов нет. Тебе не свойственно ненавидеть людей. А во мне это было. Моя ненависть к людям была для меня способом потакать своей слабости. Теперь этого нет. Я победил в себе ненависть, но в той первой битве силы она меня почти разрушила.
Твоя же битва силы была, наоборот, очень тонкой и почти тебя не затронула. Но зато теперь ты пожираешь себя своими собственными вздорными мыслями и сомнениями. Это — твой способ потакать себе.
Туман повёл себя с тобой безупречно. Чем-то ты ему близок. Он подарил тебе дивный мост, и мост этот теперь всегда будет ждать тебя там, в тумане. И будет являться тебе снова и снова, пока не настанет день, когда ты по нему пройдёшь. Поэтому я настоятельно тебе советую с сегодняшнего дня не ходить в одиночку в места, где бывают туманы. До тех пор, пока ты не будешь готов сделать это сознательно.
Сила — штука очень странная, волшебная. Чтобы в полной мере ею обладать и повелевать, нужно сперва обзавестись некоторым количеством силы, достаточным для начала. Можно, однако, сделать и по-другому: понемногу накапливать силу, никак её не используя до тех пор, пока не наберётся достаточно, чтобы выстоять в битве силы.
— Никогда. Но это объясняется лишь тем, что я — не такой, как ты. Я видел другое. Мои битвы силы совсем не были похожи на твои.
— А что видел ты, дон Хуан? Можешь рассказать?
— В своей первой битве силы я встретился в тумане со своими врагами. Но у тебя врагов нет. Тебе не свойственно ненавидеть людей. А во мне это было. Моя ненависть к людям была для меня способом потакать своей слабости. Теперь этого нет. Я победил в себе ненависть, но в той первой битве силы она меня почти разрушила.
Твоя же битва силы была, наоборот, очень тонкой и почти тебя не затронула. Но зато теперь ты пожираешь себя своими собственными вздорными мыслями и сомнениями. Это — твой способ потакать себе.
Туман повёл себя с тобой безупречно. Чем-то ты ему близок. Он подарил тебе дивный мост, и мост этот теперь всегда будет ждать тебя там, в тумане. И будет являться тебе снова и снова, пока не настанет день, когда ты по нему пройдёшь. Поэтому я настоятельно тебе советую с сегодняшнего дня не ходить в одиночку в места, где бывают туманы. До тех пор, пока ты не будешь готов сделать это сознательно.
Сила — штука очень странная, волшебная. Чтобы в полной мере ею обладать и повелевать, нужно сперва обзавестись некоторым количеством силы, достаточным для начала. Можно, однако, сделать и по-другому: понемногу накапливать силу, никак её не используя до тех пор, пока не наберётся достаточно, чтобы выстоять в битве силы.
— Что такое битва силы?
— Происходившее с тобой этой ночью было её началом. Картины, которые разворачивались перед твоими глазами, были вместилищем силы. Когда-нибудь ты разберёшься в их смысле, ведь они имеют огромное значение.
— А ты не мог бы рассказать, что они означают, дон Хуан?
— Нет. Эти картины — твоё личное завоевание. Его нельзя ни с кем разделить. Но то, что произошло этой ночью, — лишь начало, только первая стычка. Настоящая битва ждёт тебя за мостом. Что там? Об этом узнаешь только ты. И только ты узнаешь, куда ведёт та тропа в лесу. Но всё это может произойти, а может и не произойти. Чтобы пускаться в путешествие по этим неведомым тропам и мостам, нужно иметь достаточное количество своей собственной силы.
— А если силы у человека недостаточно, что тогда?
— Смерть ждёт, она ждёт всегда, и едва сила воина подходит к концу, смерть просто дотрагивается до него
— Происходившее с тобой этой ночью было её началом. Картины, которые разворачивались перед твоими глазами, были вместилищем силы. Когда-нибудь ты разберёшься в их смысле, ведь они имеют огромное значение.
— А ты не мог бы рассказать, что они означают, дон Хуан?
— Нет. Эти картины — твоё личное завоевание. Его нельзя ни с кем разделить. Но то, что произошло этой ночью, — лишь начало, только первая стычка. Настоящая битва ждёт тебя за мостом. Что там? Об этом узнаешь только ты. И только ты узнаешь, куда ведёт та тропа в лесу. Но всё это может произойти, а может и не произойти. Чтобы пускаться в путешествие по этим неведомым тропам и мостам, нужно иметь достаточное количество своей собственной силы.
— А если силы у человека недостаточно, что тогда?
— Смерть ждёт, она ждёт всегда, и едва сила воина подходит к концу, смерть просто дотрагивается до него
Глупо пускаться в путь к неизвестному, не имея силы, он приведёт только к смерти
Я почти не слушал его. Я со всех сторон обсасывал идею относительно галлюциногенных свойств мяса силы. Мне нравилось это занятие, оно успокаивало и умиротворяло несмотря на то, что было явным потаканием себе.
— Не утруждай себя, ты все равно ничего не вычислишь, — произнёс дон Хуан, словно прочитав мои мысли.
— Мир — это тайна. И то, что ты видишь перед собой в данный момент, — ещё далеко не всё, что здесь есть. В мире есть ещё столько всего… Он воистину бесконечен в каждой своей точке. Поэтому попытки что-то для себя прояснить — это на самом деле всего лишь попытки сделать какой-то аспект мира чем-то знакомым, привычным. Мы с тобой находимся здесь, в мире, который ты называешь реальным только потому, что оба мы его знаем. Ты не знаешь мира силы, и поэтому не способен превратить его в знакомую картину.
— Ты знаешь, что я не могу с тобой спорить, — сказал я. — Но в то же время принять все это мой разум не в состоянии.
Он засмеялся и легонько дотронулся до моей головы.
— Ты — псих. Честное слово, — улыбнулся он. — Но это — нормально. Я знаю: жить, как подобает воину, необычайно трудно. Если бы ты выполнял все мои инструкции и действовал в точности так, как я тебя все время учил, ты к сегодняшнему дню обладал бы силой, достаточной, чтобы пройти по мосту. Достаточной для того, чтобы видеть и остановить мир.
— Но с какой стати, дон Хуан, я должен хотеть обладать силой?
— Вряд ли можно сейчас размышлять о причинах. Но если бы ты накопил достаточное количество силы, она сама подсказала бы тебе ответ на этот вопрос. Бред сумасшедшего, верно?
— Хорошо, а тебе самому сила зачем?
— Я в этом похож на тебя. Я тоже не хотел обладать силой. И не видел причин для того, чтобы её накапливать. И никогда не выполнял инструкций, которые мне давались, или, по крайней мере, никогда не думал, что их выполняю. И однако, несмотря на свою глупость, я накопил достаточное количество силы, и в один прекрасный день моя личная сила заставила мир рухнуть.
— Но почему кто-то должен хотеть остановить мир?
— Так ведь никто и не хочет, в том-то и дело. Это просто происходит. А когда ты узнаешь, что это такое — остановка мира, ты осознаешь, что на то есть свои веские причины. Видишь ли,
— Не утруждай себя, ты все равно ничего не вычислишь, — произнёс дон Хуан, словно прочитав мои мысли.
— Мир — это тайна. И то, что ты видишь перед собой в данный момент, — ещё далеко не всё, что здесь есть. В мире есть ещё столько всего… Он воистину бесконечен в каждой своей точке. Поэтому попытки что-то для себя прояснить — это на самом деле всего лишь попытки сделать какой-то аспект мира чем-то знакомым, привычным. Мы с тобой находимся здесь, в мире, который ты называешь реальным только потому, что оба мы его знаем. Ты не знаешь мира силы, и поэтому не способен превратить его в знакомую картину.
— Ты знаешь, что я не могу с тобой спорить, — сказал я. — Но в то же время принять все это мой разум не в состоянии.
Он засмеялся и легонько дотронулся до моей головы.
— Ты — псих. Честное слово, — улыбнулся он. — Но это — нормально. Я знаю: жить, как подобает воину, необычайно трудно. Если бы ты выполнял все мои инструкции и действовал в точности так, как я тебя все время учил, ты к сегодняшнему дню обладал бы силой, достаточной, чтобы пройти по мосту. Достаточной для того, чтобы видеть и остановить мир.
— Но с какой стати, дон Хуан, я должен хотеть обладать силой?
— Вряд ли можно сейчас размышлять о причинах. Но если бы ты накопил достаточное количество силы, она сама подсказала бы тебе ответ на этот вопрос. Бред сумасшедшего, верно?
— Хорошо, а тебе самому сила зачем?
— Я в этом похож на тебя. Я тоже не хотел обладать силой. И не видел причин для того, чтобы её накапливать. И никогда не выполнял инструкций, которые мне давались, или, по крайней мере, никогда не думал, что их выполняю. И однако, несмотря на свою глупость, я накопил достаточное количество силы, и в один прекрасный день моя личная сила заставила мир рухнуть.
— Но почему кто-то должен хотеть остановить мир?
— Так ведь никто и не хочет, в том-то и дело. Это просто происходит. А когда ты узнаешь, что это такое — остановка мира, ты осознаешь, что на то есть свои веские причины. Видишь ли,
одним из аспектов искусства воина является умение сначала по некоторой особой причине разрушить мир, а затем — снова восстановить его для того, чтобы продолжать жить
Я сказал, что, наверное, было бы убедительнее всего, если бы он на примере разъяснил мне эти особые причины для разрушения мира.
Он какое-то время молчал, как бы обдумывая, что мне ответить.
— Ничего не могу тебе по этому поводу сказать, — проговорил он наконец.
— Для того, чтобы это знать, нужна сила, много силы. Может быть, когда-нибудь ты, несмотря на собственное сопротивление, начнёшь жить, как подобает воину. Это произойдёт, вероятнее всего, тогда, когда ты накопишь достаточно силы и сможешь ответить на свой вопрос самостоятельно. Я научил тебя практически всему, что необходимо воину для того, чтобы начать должным образом действовать в мире, самостоятельно накапливая силу. Но мне, в то же время, известно, что ты ещё не можешь этого сделать и что я должен проявить терпение
Он какое-то время молчал, как бы обдумывая, что мне ответить.
— Ничего не могу тебе по этому поводу сказать, — проговорил он наконец.
— Для того, чтобы это знать, нужна сила, много силы. Может быть, когда-нибудь ты, несмотря на собственное сопротивление, начнёшь жить, как подобает воину. Это произойдёт, вероятнее всего, тогда, когда ты накопишь достаточно силы и сможешь ответить на свой вопрос самостоятельно. Я научил тебя практически всему, что необходимо воину для того, чтобы начать должным образом действовать в мире, самостоятельно накапливая силу. Но мне, в то же время, известно, что ты ещё не можешь этого сделать и что я должен проявить терпение
Чтобы попасть в мир силы, необходимо пройти путь длиною в жизнь
Дон Хуан взглянул на небо, а потом — на горы. Солнце уже повернуло к западу, а на горах клубились и быстро росли дождевые тучи. Я забыл завести часы и не знал, который час. Я спросил дона Хуана о времени, и у него начался такой приступ хохота, что он скатился с плиты, на которой мы сидели, прямо в кусты.
Потом он встал, потянулся, зевнул и сказал:
— Ещё рано. Подождём, пока на вершине нашего холма соберётся туман. Ты должен остаться один на этой плите и поблагодарить туман за всё, что он для тебя сделал. А я буду где-нибудь поблизости, чтобы помочь тебе в случае необходимости.
Перспектива один на один встретиться с туманом почему-то привела меня в ужас. Я подумал, что такая иррациональная реакция с моей стороны — просто идиотизм.
— Ты не можешь, не поблагодарив, уйти из этих безлюдных гор, — твёрдо произнёс дон Хуан
Потом он встал, потянулся, зевнул и сказал:
— Ещё рано. Подождём, пока на вершине нашего холма соберётся туман. Ты должен остаться один на этой плите и поблагодарить туман за всё, что он для тебя сделал. А я буду где-нибудь поблизости, чтобы помочь тебе в случае необходимости.
Перспектива один на один встретиться с туманом почему-то привела меня в ужас. Я подумал, что такая иррациональная реакция с моей стороны — просто идиотизм.
— Ты не можешь, не поблагодарив, уйти из этих безлюдных гор, — твёрдо произнёс дон Хуан
Воин никогда не поворачивается к силе спиной, не заплатив за проявленную к нему благосклонность
Он лёг на спину, накрыл шляпой лицо и сложил руки под головой.
— Как я должен вести себя в ожидании тумана? — спросил я. — Что мне делать?
— Пиши! — сказал он из-под шляпы. — Только не закрывай глаза и не поворачивайся к туману спиной, когда он появится.
Я попытался было записывать, но никак не мог сосредоточиться. Я встал и начал беспокойно расхаживать туда-сюда. Дон Хуан приподнял шляпу и взглянул на меня с некоторым раздражением.
— Сядь! — приказал он.
Он сказал, что битва силы ещё не окончена и что мне нужно приучить свой дух к безмятежности. Ничто из того, что я делаю, не должно выдавать моих чувств. Если, конечно, я не хочу, чтобы эти горы стали для меня ловушкой.
Дон Хуан сел и движением руки дал мне понять, что сейчас будет говорить о чем-то очень важном. Он сказал, что мне следует вести себя так, как будто ничего происходит, потому что места силы, а в одном из них мы в тот момент находились, способны «втянуть» человека, который чем-то обеспокоен. Тогда между человеком и местом силы могут образоваться странные и болезненные узы.
— Эти узы — как тяжёлый якорь. Они не дают человеку оторваться от места силы иногда в течение всей жизни, — продолжал он. — А это место — не для тебя. Ты не нашёл его сам. Так что возьми себя в руки, а то ещё, чего доброго, штаны со страху потеряешь.
Его предостережение подействовало на меня подобно заклинанию. Несколько часов я работал без перерыва.
Дон Хуан заснул и проснулся только когда туман, спускавшийся с вершины холма, был уже в сотне метров от нас. Он встал и осмотрелся. Я тоже посмотрел вокруг, не поворачиваясь спиной к туману. Спустившийся с гор, которые были справа от нас, туман уже окутал все вокруг. Слева тумана не было, однако ветер, который вроде бы дул справа, гнал туман в долину. Туман неуклонно нас окружал.
Дон Хуан прошептал мне, что я должен в полном спокойствии стоять на месте, не закрывая глаз. Повернуться и начать спускаться вниз мне можно будет лишь тогда, когда туман полностью нас окружит.
И дон Хуан спрятался среди камней метрах в двух позади меня.
Горы были погружены в величественное и одновременно жуткое безмолвие. Мягкий ветер шуршал, подгоняя туман, и мне показалось, что это сам туман шипит, скатываясь на меня с вершины холма большими клочьями, похожими на комки плотного белёсого вещества. Я понюхал туман. Запах чего-то острого странным образом смешивался с какими-то свежими мягкими ароматами. И туман окутал меня.
У меня возникло ощущение, что туман действует на веки. Они отяжелели. Захотелось закрыть глаза. Стало холодно. В горле запершило, захотелось кашлянуть, но я не решился. Чтобы не кашлянуть, я запрокинул голову и вытянул шею. Взглянув вверх, я почувствовал, что вижу плотность тумана, будто взгляд мой проникает сквозь него. Глаза начали закрываться, я не в силах был бороться со сном. Я почувствовал, что через мгновение рухну на землю. Тут откуда-то выскочил дон Хуан и, схватив меня за руки, сильно встряхнул. Этого было достаточно, чтобы я пришёл в себя.
Он шепнул мне на ухо, что теперь я должен что есть духу бежать вниз по склону. Он будет следовать за мной, потому что ему вовсе не хочется, чтобы на него катились камни, которые я на бегу столкну вниз. Он сказал, что это — моя битва силы, поэтому я должен быть впереди, и моя задача — сохранять ясность ума и отрешённость, чтобы выбрать правильный путь.
— Это — как раз тот случай, — громко произнёс он. — Мы спустимся только если твоё настроение будет настроением воина. Иначе нам не уйти из тумана.
Мгновение я колебался. У меня не было уверенности в том, что я найду дорогу, которая выведет нас отсюда, из этих гор, на равнину.
Дон Хуан подтолкнул меня вниз и завопил:
— Как я должен вести себя в ожидании тумана? — спросил я. — Что мне делать?
— Пиши! — сказал он из-под шляпы. — Только не закрывай глаза и не поворачивайся к туману спиной, когда он появится.
Я попытался было записывать, но никак не мог сосредоточиться. Я встал и начал беспокойно расхаживать туда-сюда. Дон Хуан приподнял шляпу и взглянул на меня с некоторым раздражением.
— Сядь! — приказал он.
Он сказал, что битва силы ещё не окончена и что мне нужно приучить свой дух к безмятежности. Ничто из того, что я делаю, не должно выдавать моих чувств. Если, конечно, я не хочу, чтобы эти горы стали для меня ловушкой.
Дон Хуан сел и движением руки дал мне понять, что сейчас будет говорить о чем-то очень важном. Он сказал, что мне следует вести себя так, как будто ничего происходит, потому что места силы, а в одном из них мы в тот момент находились, способны «втянуть» человека, который чем-то обеспокоен. Тогда между человеком и местом силы могут образоваться странные и болезненные узы.
— Эти узы — как тяжёлый якорь. Они не дают человеку оторваться от места силы иногда в течение всей жизни, — продолжал он. — А это место — не для тебя. Ты не нашёл его сам. Так что возьми себя в руки, а то ещё, чего доброго, штаны со страху потеряешь.
Его предостережение подействовало на меня подобно заклинанию. Несколько часов я работал без перерыва.
Дон Хуан заснул и проснулся только когда туман, спускавшийся с вершины холма, был уже в сотне метров от нас. Он встал и осмотрелся. Я тоже посмотрел вокруг, не поворачиваясь спиной к туману. Спустившийся с гор, которые были справа от нас, туман уже окутал все вокруг. Слева тумана не было, однако ветер, который вроде бы дул справа, гнал туман в долину. Туман неуклонно нас окружал.
Дон Хуан прошептал мне, что я должен в полном спокойствии стоять на месте, не закрывая глаз. Повернуться и начать спускаться вниз мне можно будет лишь тогда, когда туман полностью нас окружит.
И дон Хуан спрятался среди камней метрах в двух позади меня.
Горы были погружены в величественное и одновременно жуткое безмолвие. Мягкий ветер шуршал, подгоняя туман, и мне показалось, что это сам туман шипит, скатываясь на меня с вершины холма большими клочьями, похожими на комки плотного белёсого вещества. Я понюхал туман. Запах чего-то острого странным образом смешивался с какими-то свежими мягкими ароматами. И туман окутал меня.
У меня возникло ощущение, что туман действует на веки. Они отяжелели. Захотелось закрыть глаза. Стало холодно. В горле запершило, захотелось кашлянуть, но я не решился. Чтобы не кашлянуть, я запрокинул голову и вытянул шею. Взглянув вверх, я почувствовал, что вижу плотность тумана, будто взгляд мой проникает сквозь него. Глаза начали закрываться, я не в силах был бороться со сном. Я почувствовал, что через мгновение рухну на землю. Тут откуда-то выскочил дон Хуан и, схватив меня за руки, сильно встряхнул. Этого было достаточно, чтобы я пришёл в себя.
Он шепнул мне на ухо, что теперь я должен что есть духу бежать вниз по склону. Он будет следовать за мной, потому что ему вовсе не хочется, чтобы на него катились камни, которые я на бегу столкну вниз. Он сказал, что это — моя битва силы, поэтому я должен быть впереди, и моя задача — сохранять ясность ума и отрешённость, чтобы выбрать правильный путь.
— Это — как раз тот случай, — громко произнёс он. — Мы спустимся только если твоё настроение будет настроением воина. Иначе нам не уйти из тумана.
Мгновение я колебался. У меня не было уверенности в том, что я найду дорогу, которая выведет нас отсюда, из этих гор, на равнину.
Дон Хуан подтолкнул меня вниз и завопил:
— Ну! Беги, кролик, беги!!!
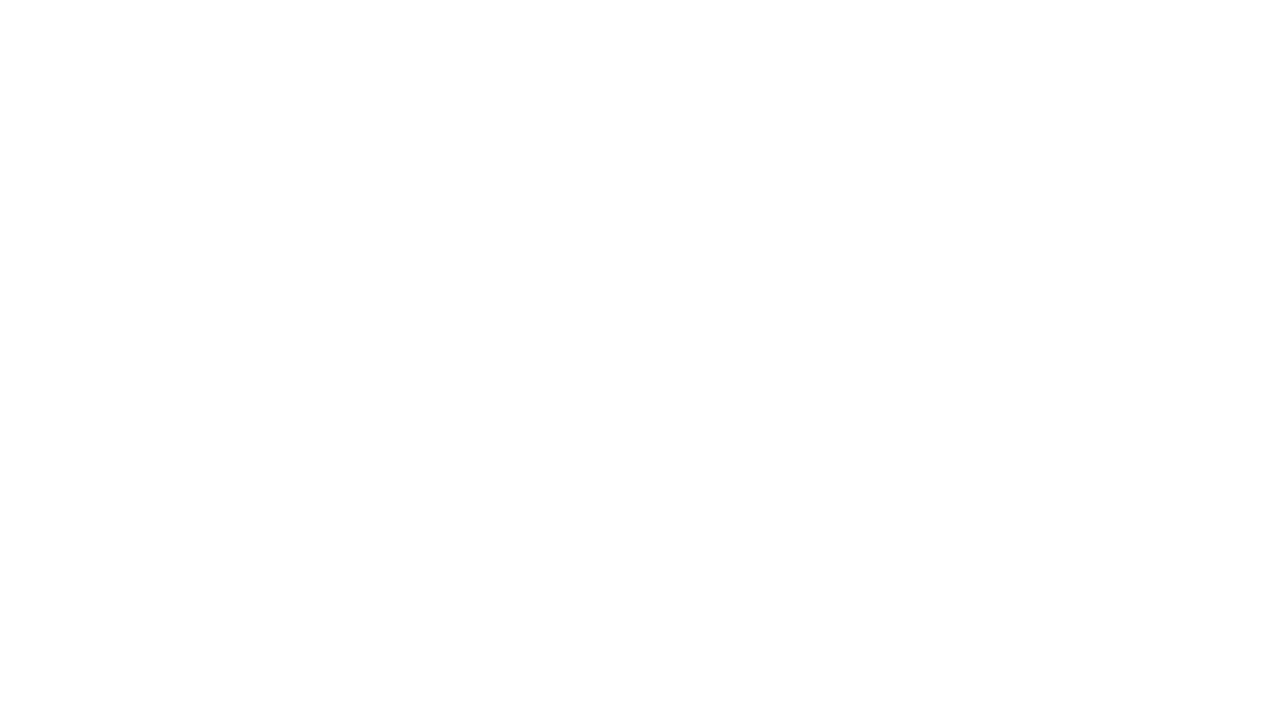
Глава 13. Последняя остановка воина
Около 10 часов утра дон Хуан вошёл в дом. Уходил он, когда едва занимался рассвет. Я поздоровался. Он усмехнулся и в шутку пожал мне руку, приветствуя меня с подчёркнутой церемонностью.
…Он выслушал все мои вопросы, не перебивая. Но сказал, что то, что мы делаем, — вовсе не тест и не экзамен. Мы ожидаем знака. Если его не будет, значит моя охота за силой оказалась неудачной. В этом случае я буду свободен от каких бы то ни было обязательств, и мне будет предоставлена возможность оставаться настолько глупым, насколько я захочу. Но в любом случае дон Хуан останется моим другом и будет всегда рад возможности видеть меня и со мной общаться.
Мне почему-то стало ясно, что я не справлюсь.
— Знака не будет, — как бы в шутку сказал я, — Я знаю. У меня мало силы.
Дон Хуан засмеялся и мягко похлопал меня по спине:
— Ты не волнуйся, — парировал он. — Знак будет. Я знаю. У меня силы намного больше, чем у тебя.
Очень драматическим тоном он прошептал:
— Это поход за силой, так что в зачёт идёт абсолютно всё.
Он объяснил также, что, ступая за ним след в след, я буду поглощать силу, рассеиваемую им при ходьбе.
Дон Хуан поставил меня по стойке смирно. Потом он взял меня за правую ступню и передвинул её вперёд на расстояние одного шага. Потом сам встал на шаг впереди меня в точно такой же позе и пошёл вперёд, повторив предварительно свои инструкции относительно того, что я должен пытаться идти за ним след в след. Очень разборчиво он прошептал, что ни на что другое внимание обращать не нужно. Только ступать след в след. Не смотреть ни вперёд, ни по сторонам, только вниз, на его ноги.
Начал он очень спокойно и расслабленно. Я без труда следовал за ним, мы шли по относительно твёрдой земле. Метров тридцать я прошёл, следуя шагу дона Хуана и точно попадая след в след, но потом украдкой глянул в сторону и тут же наступил ему на ногу.
Он хихикнул и сказал, что я совсем не повредил ему лодыжку, наступив ботинком на ногу, но если я и дальше буду продолжать в том же духе, то к утру один из нас станет калекой. Очень тихо, но твёрдо он со смехом сказал, что не собирается из-за моей глупости и невнимательности становиться хромым и что если я ещё раз наступлю ему на ногу, он заставит меня разуться и идти босиком.
— Но я не могу идти без ботинок! — громко и хрипло заявил я.
Дон Хуан снова расхохотался, и нам пришлось остановиться и ждать, пока он отсмеётся.
Он сказал, что насчёт ботинок говорил совершенно серьёзно. Мы идём на встречу с силой и мне предстоит к ней прикоснуться, поэтому в каждом шаге должно присутствовать совершенство.
Перспектива прогуляться по пустыне без ботинок напугала меня невероятно. Дон Хуан пошутил, что моя семья, должно быть, относилась к тем фермерским семьям, в которых в обуви чуть ли не в постель ложатся. Разумеется, он был прав. Я никогда не ходил босиком, и прогулка без ботинок по пустыне была в моём понимании чем-то подобным самоубийству.
— Эта пустыня буквально сочится силой, — прошептал дон Хуан. — Не время и не место для боязливости.
…Был вечер, и панорама, открывавшаяся с вершины холма, выглядела потрясающе. Вид её пробудил во мне ощущения величественного страха и отчаяния. И воспоминание о картинах, которые я видел в детстве.
Мы взобрались на самую высокую точку холма — вершину заострённой скалы, вздымавшейся над площадкой. Там мы сели лицом к югу и устроились поудобнее, прислонившись к камню. Перед нами простиралась поистине величественная картина: холмы, холмы без конца и края.
— Запечатлей всё это в памяти, — прошептал мне на ухо дон Хуан. — Здесь — твоё место. Утром ты видел, и это был знак. Ты нашёл это место с помощью видения. Знак оказался неожиданным, но он явился. Так что тебе придётся охотиться за силой, нравится это тебе или нет. Право принятия такого решения не принадлежит людям. Ни тебе, ни мне. Отныне вершина этого холма — твоё место, твоё любимое место. Всё, что ты видишь вокруг, находится на твоём попечении. Ты должен заботиться обо всем, что здесь есть, и все это, в свою очередь, будет заботиться о тебе.
Несколько минут мы молчали. Мыслей было необычно мало. Я смутно чувствовал, что неожиданное изменение его настроения является чем-то вроде предупреждения, но не испугался и не встревожился. Просто мне больше не хотелось разговаривать. Слова почему-то казались мне неточными, а их значения — слишком расплывчатыми. Никогда прежде у меня не возникало подобного чувства, но стоило мне осознать необычность своего настроения, как я поспешно заговорил.
— Но что мне делать с этим холмом, дон Хуан?
— Запечатлей каждую деталь в своей памяти. Сюда ты будешь приходить в сновидениях. Здесь ты встретишься со своими силами, здесь однажды тебе будут открыты тайны. Ты охотишься за силой; это — твоё место, и здесь ты будешь черпать энергию. Сейчас то, что я говорю, лишено для тебя смысла. Так что пусть пока это останется бессмыслицей.
Мы спустились со скалы, и дон Хуан повёл меня к небольшому чашеобразному углублению на западной стороне вершины. Там мы сели и перекусили.
Несомненно, было на вершине этого холма что-то неописуемо приятное для меня. И во время еды, как и во время отдыха, я испытывал неизвестное прежде тонкое наслаждение.
Медные отсветы заходящего солнца ложились на всё вокруг. Камни, трава, кусты — все было словно залито золотом. Я полностью предался созерцанию. Думать не хотелось.
Дон Хуан заговорил. Тихо, почти шёпотом. Он велел мне запомнить всё, каждую деталь, независимо от того, насколько мелкой или незначительной она кажется. Особенно пейзаж, наиболее впечатляющие виды которого открывались в западном направлении
…Он выслушал все мои вопросы, не перебивая. Но сказал, что то, что мы делаем, — вовсе не тест и не экзамен. Мы ожидаем знака. Если его не будет, значит моя охота за силой оказалась неудачной. В этом случае я буду свободен от каких бы то ни было обязательств, и мне будет предоставлена возможность оставаться настолько глупым, насколько я захочу. Но в любом случае дон Хуан останется моим другом и будет всегда рад возможности видеть меня и со мной общаться.
Мне почему-то стало ясно, что я не справлюсь.
— Знака не будет, — как бы в шутку сказал я, — Я знаю. У меня мало силы.
Дон Хуан засмеялся и мягко похлопал меня по спине:
— Ты не волнуйся, — парировал он. — Знак будет. Я знаю. У меня силы намного больше, чем у тебя.
Очень драматическим тоном он прошептал:
— Это поход за силой, так что в зачёт идёт абсолютно всё.
Он объяснил также, что, ступая за ним след в след, я буду поглощать силу, рассеиваемую им при ходьбе.
Дон Хуан поставил меня по стойке смирно. Потом он взял меня за правую ступню и передвинул её вперёд на расстояние одного шага. Потом сам встал на шаг впереди меня в точно такой же позе и пошёл вперёд, повторив предварительно свои инструкции относительно того, что я должен пытаться идти за ним след в след. Очень разборчиво он прошептал, что ни на что другое внимание обращать не нужно. Только ступать след в след. Не смотреть ни вперёд, ни по сторонам, только вниз, на его ноги.
Начал он очень спокойно и расслабленно. Я без труда следовал за ним, мы шли по относительно твёрдой земле. Метров тридцать я прошёл, следуя шагу дона Хуана и точно попадая след в след, но потом украдкой глянул в сторону и тут же наступил ему на ногу.
Он хихикнул и сказал, что я совсем не повредил ему лодыжку, наступив ботинком на ногу, но если я и дальше буду продолжать в том же духе, то к утру один из нас станет калекой. Очень тихо, но твёрдо он со смехом сказал, что не собирается из-за моей глупости и невнимательности становиться хромым и что если я ещё раз наступлю ему на ногу, он заставит меня разуться и идти босиком.
— Но я не могу идти без ботинок! — громко и хрипло заявил я.
Дон Хуан снова расхохотался, и нам пришлось остановиться и ждать, пока он отсмеётся.
Он сказал, что насчёт ботинок говорил совершенно серьёзно. Мы идём на встречу с силой и мне предстоит к ней прикоснуться, поэтому в каждом шаге должно присутствовать совершенство.
Перспектива прогуляться по пустыне без ботинок напугала меня невероятно. Дон Хуан пошутил, что моя семья, должно быть, относилась к тем фермерским семьям, в которых в обуви чуть ли не в постель ложатся. Разумеется, он был прав. Я никогда не ходил босиком, и прогулка без ботинок по пустыне была в моём понимании чем-то подобным самоубийству.
— Эта пустыня буквально сочится силой, — прошептал дон Хуан. — Не время и не место для боязливости.
…Был вечер, и панорама, открывавшаяся с вершины холма, выглядела потрясающе. Вид её пробудил во мне ощущения величественного страха и отчаяния. И воспоминание о картинах, которые я видел в детстве.
Мы взобрались на самую высокую точку холма — вершину заострённой скалы, вздымавшейся над площадкой. Там мы сели лицом к югу и устроились поудобнее, прислонившись к камню. Перед нами простиралась поистине величественная картина: холмы, холмы без конца и края.
— Запечатлей всё это в памяти, — прошептал мне на ухо дон Хуан. — Здесь — твоё место. Утром ты видел, и это был знак. Ты нашёл это место с помощью видения. Знак оказался неожиданным, но он явился. Так что тебе придётся охотиться за силой, нравится это тебе или нет. Право принятия такого решения не принадлежит людям. Ни тебе, ни мне. Отныне вершина этого холма — твоё место, твоё любимое место. Всё, что ты видишь вокруг, находится на твоём попечении. Ты должен заботиться обо всем, что здесь есть, и все это, в свою очередь, будет заботиться о тебе.
Несколько минут мы молчали. Мыслей было необычно мало. Я смутно чувствовал, что неожиданное изменение его настроения является чем-то вроде предупреждения, но не испугался и не встревожился. Просто мне больше не хотелось разговаривать. Слова почему-то казались мне неточными, а их значения — слишком расплывчатыми. Никогда прежде у меня не возникало подобного чувства, но стоило мне осознать необычность своего настроения, как я поспешно заговорил.
— Но что мне делать с этим холмом, дон Хуан?
— Запечатлей каждую деталь в своей памяти. Сюда ты будешь приходить в сновидениях. Здесь ты встретишься со своими силами, здесь однажды тебе будут открыты тайны. Ты охотишься за силой; это — твоё место, и здесь ты будешь черпать энергию. Сейчас то, что я говорю, лишено для тебя смысла. Так что пусть пока это останется бессмыслицей.
Мы спустились со скалы, и дон Хуан повёл меня к небольшому чашеобразному углублению на западной стороне вершины. Там мы сели и перекусили.
Несомненно, было на вершине этого холма что-то неописуемо приятное для меня. И во время еды, как и во время отдыха, я испытывал неизвестное прежде тонкое наслаждение.
Медные отсветы заходящего солнца ложились на всё вокруг. Камни, трава, кусты — все было словно залито золотом. Я полностью предался созерцанию. Думать не хотелось.
Дон Хуан заговорил. Тихо, почти шёпотом. Он велел мне запомнить всё, каждую деталь, независимо от того, насколько мелкой или незначительной она кажется. Особенно пейзаж, наиболее впечатляющие виды которого открывались в западном направлении
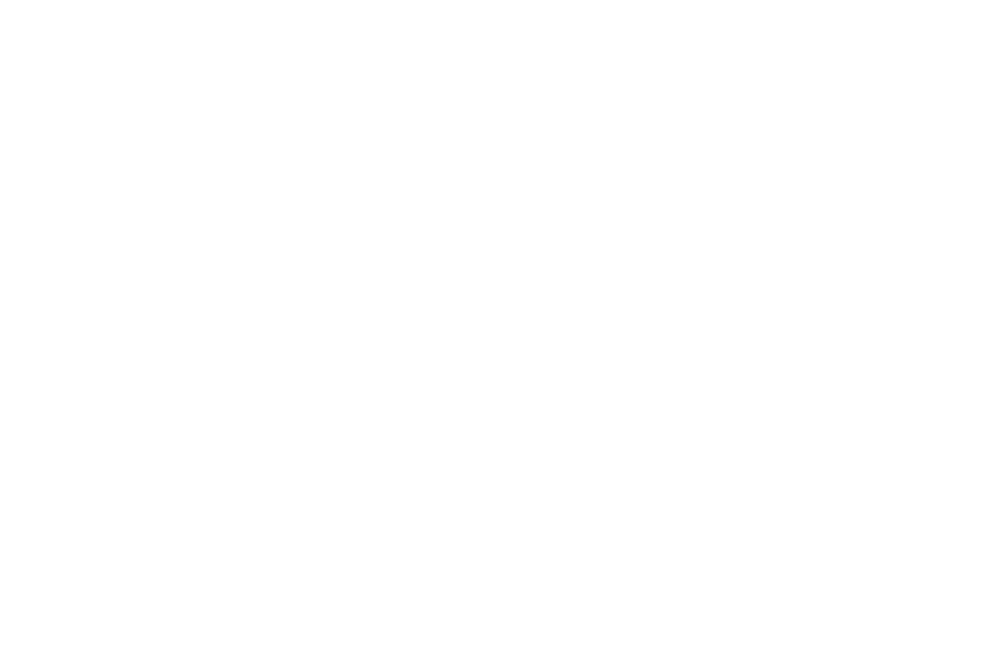
— Знание — сила. Для того, чтобы о нем говорить, нужно уметь управлять силой. А чтобы этому научиться, необходимо время. Много времени.
Я пытался настаивать, но он резко сменил тему. Он спросил, как у меня обстоят дела со «сновидением».
К тому времени я уже начал наблюдать во сне конкретные места — университет и квартиры своих друзей.
— Когда ты бываешь в этих местах — днём или ночью? — спросил дон Хуан.
Мои сны соответствовали тому времени дня, в которое я обычно бываю в соответствующих местах. В университете — днём, в домах своих друзей — вечером.
Дон Хуан предложил мне практиковать «сновидение» во время дневного сна и посмотреть, удастся ли мне визуализировать выбранное место в том виде, который оно имеет в тот самый момент, когда я сплю. Если я практикую «сновидение» ночью, то и видения выбранных мест должны быть ночными. Переживаемое в «сновидении» должно соответствовать тому времени суток, в которое «сновидение» практикуется. В противном случае это будет не «сновидение», а обычный сон.
— Чтобы облегчить себе задачу, тебе следует избрать вполне определённый объект, который должен находиться в том месте, куда ты хочешь попасть. На этом объекте необходимо сосредоточить внимание, — продолжал дон Хуан.
— Например, ты можешь выбрать на этой вершине какой-нибудь вполне конкретный куст и смотреть на него до тех пор, пока он прочно не отпечатается в твоей памяти. И впоследствии ты сможешь попадать сюда в сновидении, просто вызвав образ этого куста. Или, скажем, камня, на котором мы сидели. Или чего угодно другого, что здесь присутствует: Задача путешествий в сновидениях значительно упрощается, если вызываешь образ места силы. Например, такого, как то, где мы сейчас находимся.
Но если тебе по каким-либо причинам не хочется попадать именно сюда, можешь воспользоваться любым другим местом. Вероятнее всего, университет тоже является для тебя местом силы. Используй его.
Сначала сосредоточься на любом объекте, который там есть, а потом отыщи этот объект в сновидении. С объекта, который тебя интересует, переводи взгляд на руки. Потом — на любой другой объект и так далее. Но сейчас тебе необходимо полностью сосредоточиться на том, что присутствует здесь, на этой вершине, поскольку это — самое важное место в твоей жизни
Я пытался настаивать, но он резко сменил тему. Он спросил, как у меня обстоят дела со «сновидением».
К тому времени я уже начал наблюдать во сне конкретные места — университет и квартиры своих друзей.
— Когда ты бываешь в этих местах — днём или ночью? — спросил дон Хуан.
Мои сны соответствовали тому времени дня, в которое я обычно бываю в соответствующих местах. В университете — днём, в домах своих друзей — вечером.
Дон Хуан предложил мне практиковать «сновидение» во время дневного сна и посмотреть, удастся ли мне визуализировать выбранное место в том виде, который оно имеет в тот самый момент, когда я сплю. Если я практикую «сновидение» ночью, то и видения выбранных мест должны быть ночными. Переживаемое в «сновидении» должно соответствовать тому времени суток, в которое «сновидение» практикуется. В противном случае это будет не «сновидение», а обычный сон.
— Чтобы облегчить себе задачу, тебе следует избрать вполне определённый объект, который должен находиться в том месте, куда ты хочешь попасть. На этом объекте необходимо сосредоточить внимание, — продолжал дон Хуан.
— Например, ты можешь выбрать на этой вершине какой-нибудь вполне конкретный куст и смотреть на него до тех пор, пока он прочно не отпечатается в твоей памяти. И впоследствии ты сможешь попадать сюда в сновидении, просто вызвав образ этого куста. Или, скажем, камня, на котором мы сидели. Или чего угодно другого, что здесь присутствует: Задача путешествий в сновидениях значительно упрощается, если вызываешь образ места силы. Например, такого, как то, где мы сейчас находимся.
Но если тебе по каким-либо причинам не хочется попадать именно сюда, можешь воспользоваться любым другим местом. Вероятнее всего, университет тоже является для тебя местом силы. Используй его.
Сначала сосредоточься на любом объекте, который там есть, а потом отыщи этот объект в сновидении. С объекта, который тебя интересует, переводи взгляд на руки. Потом — на любой другой объект и так далее. Но сейчас тебе необходимо полностью сосредоточиться на том, что присутствует здесь, на этой вершине, поскольку это — самое важное место в твоей жизни
Он взглянул на меня, как бы оценивая впечатление от своих слов.
Я нервно задвигался, меняя позу, а он улыбнулся:
— Мне придётся ещё не раз приходить с тобой сюда. А потом ты будешь снова и снова приходить сюда сам. До тех пор, пока не насытишься этой вершиной, пока она буквально не затопит всё твоё существо. Ты сам узнаешь, когда это произойдёт. И тогда эта вершина станет местом твоего последнего танца.
— Что означают твои слова, дон Хуан? Что за последний танец?
— Это — место твоей последней остановки. Где бы ни застала тебя смерть, умирать ты будешь здесь. У каждого воина есть место смерти. Избранное место, насквозь пропитанное незабываемыми, исполненными силы событиями, каждое из которых оставило неизгладимый след; место, на котором воин становился свидетелем великих чудес, в котором ему были поведаны тайны; место, где воин запасает свою личную силу.
Долг воина — возвращаться туда после каждого контакта с силой, чтобы в этом месте сделать её запас. Он либо просто приходит туда, либо попадает в сновидении.
А в итоге, когда заканчивается время, отведённое ему здесь, на этой земле, и он чувствует на левом плече прикосновение смерти, дух его, который всегда готов, летит в избранное место, и там воин совершает свой последний танец. Он танцует, и единственным зрителем является смерть. У каждого воина своя особая последовательность движений и поз. Они несут в себе силу. Этому своеобразному танцу воин учится в течение всей жизни. Танцу, который воин исполняет под воздействием своей личной смерти.
Если сила умирающего воина ограничена, танец его короток. Но если сила воина грандиозна, то его танец исполнен фантастического великолепия. Однако независимо от того, мала его сила или неизмерима, смерть должна остановиться. Смерть не может не стать свидетелем последнего танца воина на этой земле. Этот танец есть рассказ воина о том тяжёлом труде, каким была его жизнь, и смерть должна ждать, ибо ей не под силу одолеть воина, пока танец его не будет завершён.
От слов дона Хуана меня бросило в дрожь. Покой, сумерки, величественные суровые картины окружающей природы — все было словно отдельными чертами, соединение которых рождало в воображении фантастические образы последнего танца воина — танца силы.
— Можешь ли ты научить меня этому танцу, невзирая на то, что я — не воин? — спросил я.
— Тот, кто охотится за силой, должен научиться этому сам, — ответил он. — И сейчас я ничем не могу тебе помочь. В скором времени у тебя, возможно, появится достойный противник. Тогда я покажу тебе первое движение твоего танца силы. А все остальные его элементы тебе придётся находить самостоятельно, и это станет делом всей твоей жизни. Каждое новое движение ты будешь добывать в борьбе за силу. Так что, собственно говоря, танец воина — это история его жизни, история его личной борьбы, которая растёт по мере того, как растёт его личная сила.
— И что, смерть действительно останавливается, чтобы посмотреть на танец воина?
— Воин — всего лишь человек. Простой человек. И ему не под силу вмешаться в предначертания смерти. Но его безупречный дух, который обрёл силу, пройдя сквозь невообразимые трудности, несомненно способен на время остановить смерть. И этого времени достаточно для того, чтобы воин в последний раз насладился воспоминанием о своей силе. Можно сказать, что это — сговор, в который смерть вступает с тем, чей дух безупречен.
Меня одолело любопытство, и я задал вопрос, который, по правде говоря, был праздным. Я спросил дон Хуана, знал ли он воинов, которые умерли, и известно ли ему, как последний танец повлиял на процесс их умирания.
— Прекрати, — сухо ответил он. — Смерть — это слишком серьёзно и фундаментально. Умереть — не просто подрыгать ногами и задубеть.
— А я тоже буду исполнять свой последний танец перед лицом смерти?
— Непременно. Ты охотишься за личной силой, хотя пока что и не живёшь как воин. Сегодня солнце явило тебе знак. Всё лучшее, что ты сделаешь в своей жизни, будет сделано в конце дня.
Очевидно, тебе не по нраву юное сияние раннего света. Путешествия по утрам тебя не привлекают. Но умирающее солнце — темно-жёлтое слепое солнце — твоё. Ты не любишь жару, ты любишь закатное сияние. И поэтому твой последний танец будет совершён на этой вершине в конце дня.
И в танце этом будет твой рассказ о борьбе, о битвах, в которых ты победил, и о тех, которые проиграл, о радостях и разочарованиях, обо всём, что было встречено тобой в походе за личной силой. Твой танец поведает об открывшихся тебе тайнах и о чудесах, ставших твоим достоянием.
Так же, как сегодня, умирающее солнце опалит тебя, но не обожжёт. Будет дуть мягкий тёплый ветер, и вершина холма задрожит. И когда танец твой подойдёт к концу, ты посмотришь на солнце, посмотришь в последний раз, потому что больше ты не увидишь его никогда — ни наяву, ни в сновидении.
А потом — потом смерть позовёт тебя, указав на юг. В бесконечность
Я нервно задвигался, меняя позу, а он улыбнулся:
— Мне придётся ещё не раз приходить с тобой сюда. А потом ты будешь снова и снова приходить сюда сам. До тех пор, пока не насытишься этой вершиной, пока она буквально не затопит всё твоё существо. Ты сам узнаешь, когда это произойдёт. И тогда эта вершина станет местом твоего последнего танца.
— Что означают твои слова, дон Хуан? Что за последний танец?
— Это — место твоей последней остановки. Где бы ни застала тебя смерть, умирать ты будешь здесь. У каждого воина есть место смерти. Избранное место, насквозь пропитанное незабываемыми, исполненными силы событиями, каждое из которых оставило неизгладимый след; место, на котором воин становился свидетелем великих чудес, в котором ему были поведаны тайны; место, где воин запасает свою личную силу.
Долг воина — возвращаться туда после каждого контакта с силой, чтобы в этом месте сделать её запас. Он либо просто приходит туда, либо попадает в сновидении.
А в итоге, когда заканчивается время, отведённое ему здесь, на этой земле, и он чувствует на левом плече прикосновение смерти, дух его, который всегда готов, летит в избранное место, и там воин совершает свой последний танец. Он танцует, и единственным зрителем является смерть. У каждого воина своя особая последовательность движений и поз. Они несут в себе силу. Этому своеобразному танцу воин учится в течение всей жизни. Танцу, который воин исполняет под воздействием своей личной смерти.
Если сила умирающего воина ограничена, танец его короток. Но если сила воина грандиозна, то его танец исполнен фантастического великолепия. Однако независимо от того, мала его сила или неизмерима, смерть должна остановиться. Смерть не может не стать свидетелем последнего танца воина на этой земле. Этот танец есть рассказ воина о том тяжёлом труде, каким была его жизнь, и смерть должна ждать, ибо ей не под силу одолеть воина, пока танец его не будет завершён.
От слов дона Хуана меня бросило в дрожь. Покой, сумерки, величественные суровые картины окружающей природы — все было словно отдельными чертами, соединение которых рождало в воображении фантастические образы последнего танца воина — танца силы.
— Можешь ли ты научить меня этому танцу, невзирая на то, что я — не воин? — спросил я.
— Тот, кто охотится за силой, должен научиться этому сам, — ответил он. — И сейчас я ничем не могу тебе помочь. В скором времени у тебя, возможно, появится достойный противник. Тогда я покажу тебе первое движение твоего танца силы. А все остальные его элементы тебе придётся находить самостоятельно, и это станет делом всей твоей жизни. Каждое новое движение ты будешь добывать в борьбе за силу. Так что, собственно говоря, танец воина — это история его жизни, история его личной борьбы, которая растёт по мере того, как растёт его личная сила.
— И что, смерть действительно останавливается, чтобы посмотреть на танец воина?
— Воин — всего лишь человек. Простой человек. И ему не под силу вмешаться в предначертания смерти. Но его безупречный дух, который обрёл силу, пройдя сквозь невообразимые трудности, несомненно способен на время остановить смерть. И этого времени достаточно для того, чтобы воин в последний раз насладился воспоминанием о своей силе. Можно сказать, что это — сговор, в который смерть вступает с тем, чей дух безупречен.
Меня одолело любопытство, и я задал вопрос, который, по правде говоря, был праздным. Я спросил дон Хуана, знал ли он воинов, которые умерли, и известно ли ему, как последний танец повлиял на процесс их умирания.
— Прекрати, — сухо ответил он. — Смерть — это слишком серьёзно и фундаментально. Умереть — не просто подрыгать ногами и задубеть.
— А я тоже буду исполнять свой последний танец перед лицом смерти?
— Непременно. Ты охотишься за личной силой, хотя пока что и не живёшь как воин. Сегодня солнце явило тебе знак. Всё лучшее, что ты сделаешь в своей жизни, будет сделано в конце дня.
Очевидно, тебе не по нраву юное сияние раннего света. Путешествия по утрам тебя не привлекают. Но умирающее солнце — темно-жёлтое слепое солнце — твоё. Ты не любишь жару, ты любишь закатное сияние. И поэтому твой последний танец будет совершён на этой вершине в конце дня.
И в танце этом будет твой рассказ о борьбе, о битвах, в которых ты победил, и о тех, которые проиграл, о радостях и разочарованиях, обо всём, что было встречено тобой в походе за личной силой. Твой танец поведает об открывшихся тебе тайнах и о чудесах, ставших твоим достоянием.
Так же, как сегодня, умирающее солнце опалит тебя, но не обожжёт. Будет дуть мягкий тёплый ветер, и вершина холма задрожит. И когда танец твой подойдёт к концу, ты посмотришь на солнце, посмотришь в последний раз, потому что больше ты не увидишь его никогда — ни наяву, ни в сновидении.
А потом — потом смерть позовёт тебя, указав на юг. В бесконечность
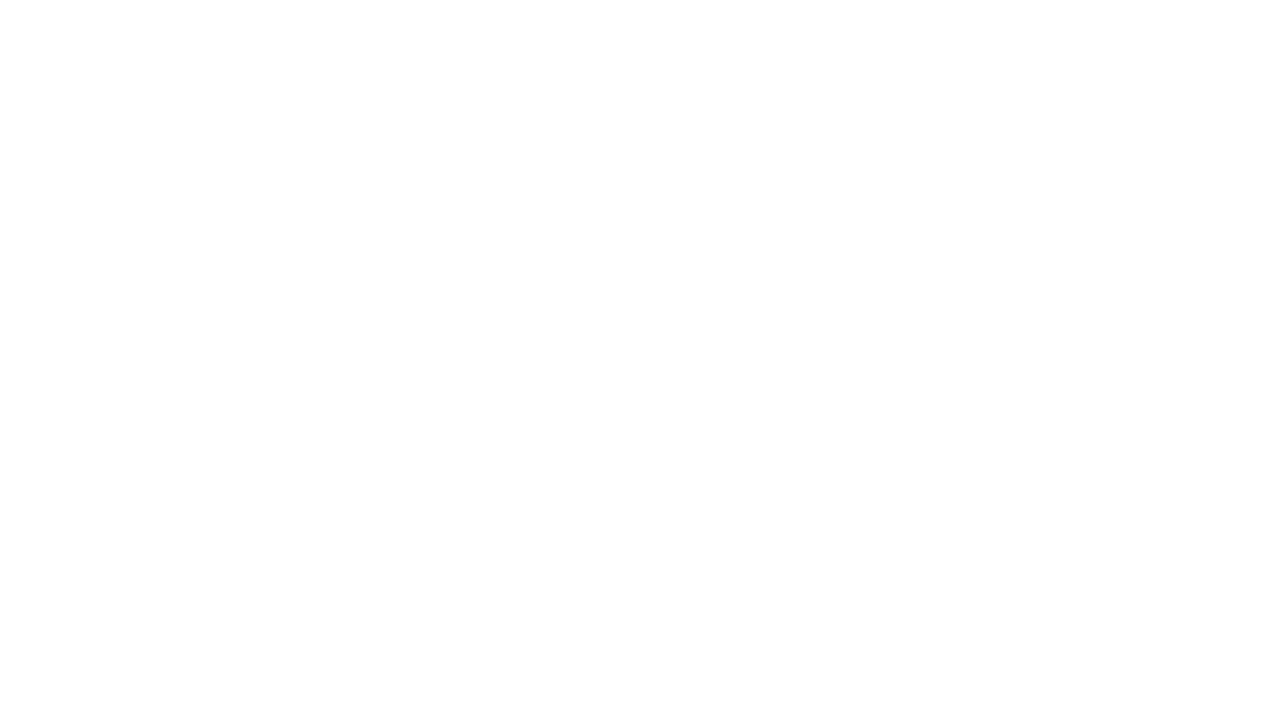
Авторы
Практика
Информация